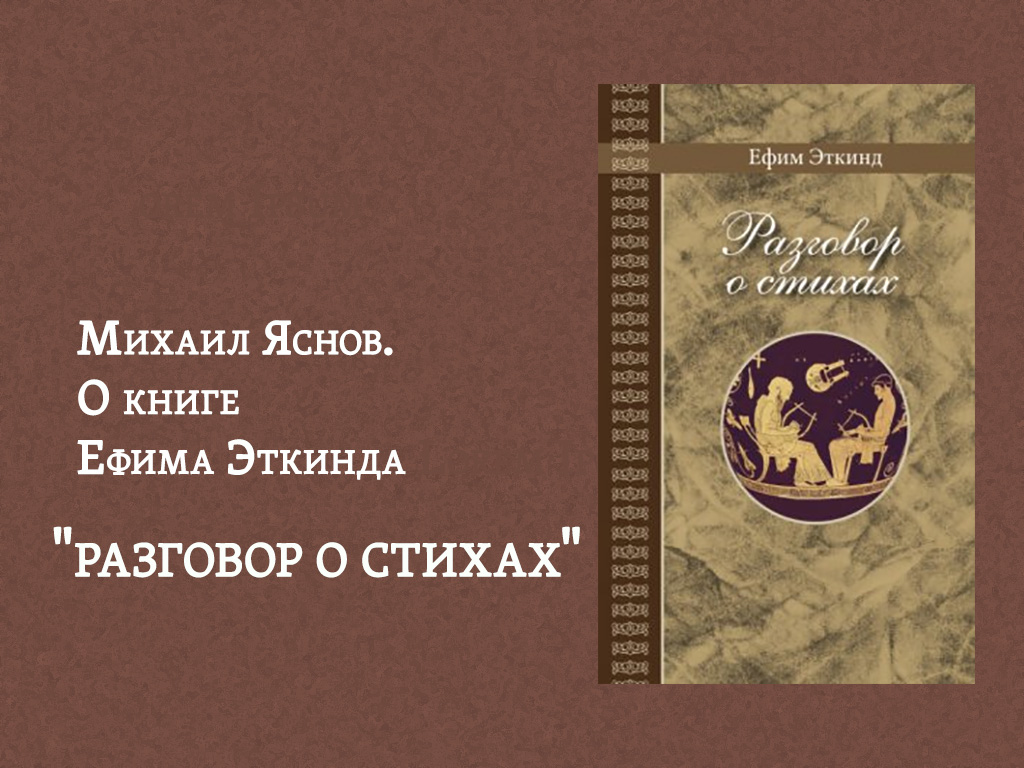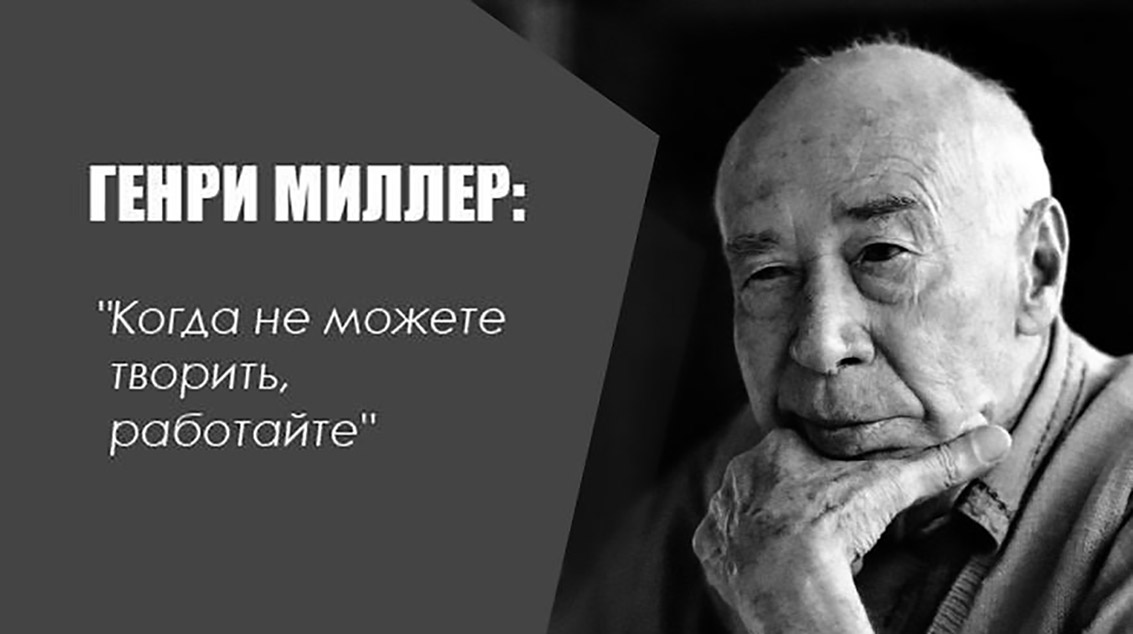Владимир НАБОКОВ
ХОРОШИЙ ЧИТАТЕЛЬ И ХОРОШИЙ ПИСАТЕЛЬ
Как быть хорошим читателем», или «О доброжелательности к авторам» — так приблизительно можно было бы обозначить жанр этих разных обсуждений разных авторов, потому что я, любуясь и любовно медля на подробностях, предполагаю разобрать несколько шедевров европейской литературы. Сто лет тому назад Флобер в письме к возлюбленной заметил: «Какой учёности можно было бы достичь, хорошо зная всего пять шесть книг».
При чтении нужно замечать и лелеять подробности. В лунном свете обобщений нет ничего дурного, если он воссияет после того, как любовно собраны солнечные мелочи книги. Начать с готового обобщения — значит начать не с того конца и удалиться от книги, так и не начав ее понимать. Нет ничего скучнее или несправедливее по отношению к автору, чем приниматься читать, скажем, «Мадам Бовари» с заведомой уверенностью, что в романе осуждается буржуазия. Мы всегда должны помнить, что произведение искусства — это неизменно сотворение нового мира, и первое, что нам следует сделать — это изучить сотворённое как можно внимательнее, подходя к нему, как к чему-то совершенно новому, не имеющему никаких очевидных связей с мирами, уже известными нам. Когда же этот новый мир будет внимательно нами изучен, тогда и только тогда давайте исследовать его соотношение с иными мирами, иными областями знания.
Другой вопрос: можем ли мы надеяться почерпнуть из романа сведения о времени и месте? Может ли кто-нибудь в своей наивности полагать, что он или она что-то узнает о прошлом из пухлых бестселлеров, которыми, именуя их историческими романами, на каждом ушу торгуют книжные клубы? А шедевры? Можем ли мы доверять изображённой Джейн Остин картине землевладельческой Англии с баронетами и пейзажными парками, когда она всего-то и знала, что гостиную священника? А «Холодный дом», этот фантастический роман приключений в фантастическом Лондоне, можем ли мы назвать его исследованием Лондона сто лет назад? Конечно, нет. То же и с другими романами в этом ряду. Дело в том, что великие романы — это великие сказки, а романы в этом ряду — величайшие сказки.
Время и пространство, краски зимы и лета, движения мышц и мыслей, все это для гениальных писателей (насколько мы можем догадываться, а догадываемся мы, надо полагать, правильно) не традиционные понятия, которые выдаются в библиотеке расхожих истин, а множество неповторимых неожиданностей, и они научились их выражать неповторимым образом. На долю заурядных писателей остаётся украшательство общих мест: от не утруждают себя изобретением мира заново, а просто стараются выжать как можно больше из заведённого порядка вещей, из традиционных литературных шаблонов. В этих установленных границах заурядным писателям удаётся производить разнообразные сочетания, не лишённые известной занимательности облегчённо-эфемерного свойства, потому что заурядные читатели любят узнавать свои собственные мысли в приятном облачении. Но настоящий писатель, тот, кто приводит в движение планеты, представляет нам человека спящим и что-то жадно лепит из его ребра, такой автор не имеет в своём распоряжении готовых ценностей: он должен создать их сам. Искусство сочинительства — совершенно пустое занятие, если в первую очередь оно не предполагает искусства видеть мир как возможность литературы. Материал этого мира может быть достаточно реальным (пока есть реальность), но как общепринятая данность не существует вообще: это хаос, писатель говорит этому хаосу: «марш!», и мир начинает мерцать и плавиться. Все теперь соединяется по-иному в самых его атомах, а не только в его видимой и поверхностной частях. Писатель первый наносит его на карту. Вон те ягоды съедобны. Пятнистое существо, которое метнулось мне наперерез, можно приручить. Озеро между вон теми деревьями будет называться Опаловым, или, более поэтично, Посудомоечным. Этот туман — гора, и гору нужно покорить. Вверх по нехоженому склону взбирается художник-мастер, и кого бы вы думали он встречает на вершине, на обдуваемом ветром гребне? Запыхавшегося и счастливого читателя, от порывисто обнимаются и связаны теперь навек, если книга длится вечно.
Однажды вечером в далёком провинциальном коллеже, через который мне случилось проехать во время затянувшегося лекционного тура, я предложил небольшой опрос — десять определений читателя, и из этих десяти студенты должны были выбрать четыре, которые в совокупности давали бы хорошего читателя. Список я потерял, но определения, насколько я помню, были приблизительно такие. Выберите четыре ответа на вопрос, каким должен быть читатель, чтобы быть хорошим читателем:
Читатель должен быть членом книжного клуба.
Читатель должен отождествлять себя с героем или героиней книги.
У читателя должен преобладать социально-экономический подход.
Читатель должен предпочитать книги, где есть действие и диалог, тем книгам, где их нет.
Читатель должен был посмотреть снятый по книге фильм.
Читатель должен быть обещающим автором.
У читателя должно быть воображение.
У читателя должна быть память.
У читателя должен быть словарь.
У читателя должно быть некоторое художественное чутье.
Студенты решительно склонялись к эмоциональному отождествлению, действию и социально-экономическому или историческому подходу. Конечно, как вы уже догадались, хороший читатель — тот, у которого есть воображение, память, словарь и некоторое художественное чутье — каковое при всякой возможности предлагаю развивать в себе и в других.
Кстати, слово читатель я употребляю весьма условно. Как это ни странно, книгу нельзя читать, ее можно только перечитывать. Хороший читатель, главный читатель, активный и творческий читатель — это перечитыватель. И вот почему. Когда мы читаем книгу впервые, сам процесс перемещения взгляда слева направо от строчки к строчке, от страницы к странице, эта сложная физическая работа с книгой, сам процесс осмысления содержания книги в категориях пространства и времени стоит между нами и художественным восприятием. Когда мы смотрим на картину, нам не нужно специально двигать глазами, даже если, подобно книге, картина обладает элементами глубины и развития. Элемент времени в действительности не входит в первое общение с картиной. Когда мы читаем книгу, нам нужно время на то, чтобы с ней познакомиться. У нас нет такого физического органа (как глаз в случае с картиной), который вбирает картину целиком, а потом может наслаждаться подробностями. Но при втором, третьем, четвёртом прочтении мы ведём себя по отношению к книге в каком-то смысле так же, как по отношению к картине. Не будем, однако, смешивать физическое око, этот чудовищный венец эволюции, с разумом, достижением ещё более чудовищным. Книга, неважно, какая — художественная ли, научное ли произведение (граница между ними совсем не такая чёткая, как принято полагать) — художественное произведение обращено прежде всего к разуму. Разум, мозг, завершение трепещущего хребта — вот единственное орудие, которое можно и должно применять при чтении книги.
Раз так, то теперь подумаем, как работает разум, когда пасмурный читатель сталкивается с солнечной книгой. Во-первых, пасмурное настроение проходит, и, хорошо это или плохо, читатель проникается духом игры. Усилие, чтобы начать читать, особенно если книгу хвалят люди, которых молодой читатель про себя считает слишком несовременными или слишком серьёзными, такое усилие нередко нам даётся с трудом, но будучи сделанным, вознаграждается разнообразно и щедро. Поскольку художник-мастер, создавая книгу, пользовался своим воображением, будет справедливо и естественно, если потребитель книги воспользуется своим воображением тоже.
Однако у читателя существует по крайней мере два вида воображения. Давайте посмотрим, какой из них нужно использовать при чтении книги. Во-первых, существует воображение сравнительно низкого ранга: оно ищет опору в несложных эмоциях и носит отчётливо личный характер. (Здесь, в этом первом разделе эмоционального чтения, есть множество разновидностей.) Ситуация в книге остро переживается потому, что она напоминает нам о чем- то, случившемся с нами, или о ком-то, кого мы знаем или знали. Или, опять же, читатель ценит книгу за то, что она навевает мысли о стране, пейзаже, образе жизни, которые он ностальгически вспоминает как эпизод своего собственного прошлого. Это низший вид — я бы хотел, чтобы читатели пользовались воображением другого рода.
Что же тогда должно быть подлинным инструментом читателя? Это безличное воображение и эстетическая упоённость. Между умом читателя и умом писателя должно, я думаю, установиться гармоничное эстетическое равновесие. Нам следует немного отстраниться и получать удовольствие от этого отстранения, в то время, как мы пронзительно наслаждаемся — наслаждаемся страстно, наслаждаемся со слезами и содроганиями внутренней тканью того или иного шедевра. Быть совершенно объективным в этих вопросах, конечно, невозможно. Все, достойное внимания, в какой-то мере субъективно. Например, то что вы здесь сидите, может быть, просто мой сон, а я — ваш кошмар. Но я имею в виду, что читатель должен знать, где и когда обуздывать своё воображение, а обуздывает он его, стараясь во всей конкретности ощутить мир, предоставленный в его распоряжение автором. Мы должны видеть и слышать, должны представлять себе комнаты, одежду, манеры героев. Важно то, какого цвета глаза у Фанни Прайс в «Мэнсфилд Парке», какова обстановка ее холодной маленькой комнаты.
Темперамент у всех у нас разный, и могу сказать сразу, что самый лучший темперамент для читателя, природный или благоприобретённый, — это сочетание темперамента художественного и научного. Один лишь восторженный художник склонен к излишней субъективности в своём отношении к книге, а так научная холодность суждений умерит интуитивный пыл. Если же, однако, будущий читатель начисто лишён страсти и терпения — страсти художника и терпения учёного, то едва ли он будет наслаждаться великой литературой.
Литература родилась не в тот день, когда мальчишка с криком «волк!» «волк!» выбежал из неандертальской долины, а за ним по пятам гнался большой серый волк, литература родилась в тот день, когда мальчишка выбежал с криком «волк!», а волка позади не было. То, что настоящий зверь в конце концов слопал бедняжку, потому что тот слишком часто врал, не имеет никакого значения. Важно вот что. Между волком под развесистым деревом и волком в развесистой клюкве есть мерцающий посредник. Этот посредник, эта призма — искусство литературы.
Литература — это вымысел. Сочинительство — это сочинение. Назвать историю правдивой историей оскорбительно и для искусства, и для правды. Каждый великий писатель — великий обманщик, но такова и архи-плутовка природа. Природа всегда обманывает. От простейшего обмана размножения до фантастически сложной иллюзии защитных цветов у бабочек и птиц, в природе существует удивительная система ухищрений и чар. Сочинитель только идёт на поводу у природы.
Возвращаясь на минуту к нашему кричавшему «волк!» маленькому лесному шерстистому Другу, мы можем сказать так: магия искусства заключалась в призраке волка, которого он нарочно выдумал, в том, что ему пригрезился волк: значит, история его проделок — хорошая история. Когда же в конце концов он погиб, то во мраке вокруг общего костра из рассказанной о нем истории извлекли хороший урок. Но он был маленьким волшебником. Выдумал — он.
Существует три точки зрения на писателя: писатель как рассказчик, как учитель и как чародей. Большой писатель сочетает в себе всех троих — рассказчика, учителя, чародея, — но преобладает именно чародей, отчего писатель и делается большим писателем.
От рассказчика мы хотим развлечения, интеллектуального возбуждения самого примитивного свойства, эмоционального соучастия, удовольствия перенестись в какую-нибудь отдалённую во времени и пространстве область. Ум несколько иного, но не обязательно более возвышенного склада ищет в писателе учителя. Пропагандист, моралист, пророк — вот, по нарастающей, этот ряд. К учителю мы можем обратиться не только за нравственным воспитанием, но и за непосредственным знанием, за чистыми фактами. Увы, я знавал людей, которые читали французских и русских романистов с тем, чтобы узнать что-нибудь о жизни в весёлом Париже или унылой России. В конце концов и прежде всего, великий писатель — всегда великий чародей, и вот теперь, когда мы стараемся постичь своеобразие его магического дара, изучить стиль, образы, строение его романов или стихов, мы добрались до самой интересной части.
Три грани великого писателя — магия, рассказ, урок — сольются в едином впечатлении равномерного и неповторимого света, потому что магия искусства может присутствовать в крови истории, в плоти мысли. Есть шедевры сухой, прозрачной, упорядоченной мысли, которые возбуждают в нас артистический трепет с неменьшей силой, чем роман наподобие «Мэнсфилд Парка» или какой-нибудь полноводный поток чувственных диккенсовских образов. По-моему, хорошая формула для проверки качества романа — в конечном итоге, соединение точности поэзии с интуицией науки. Чтобы согреться в лучах этой магии, мудрый читатель читает гениальную книгу не столько сердцем и не столько умом, сколько спинным хребтом. Именно там звенит сигнальный звоночек, даже если при чтении мы должны держаться немного в стороне, немного особняком. Тогда с наслаждением, и интеллектуальным, и чувственным, мы будем смотреть, как художник строит свой карточный домик, и видеть, как этот карточный домик превращается в дом из прекрасного металла и стекла.