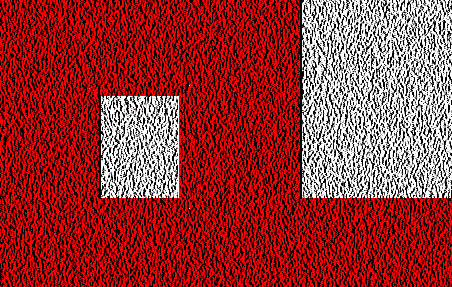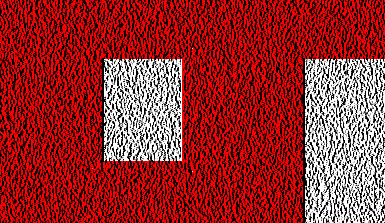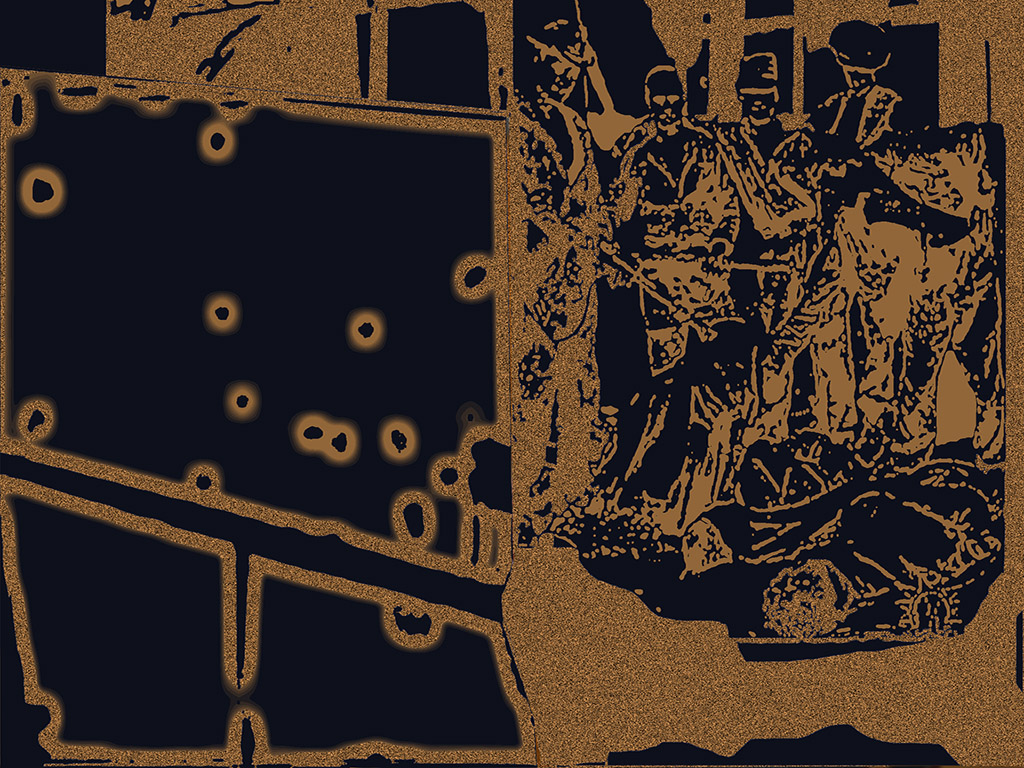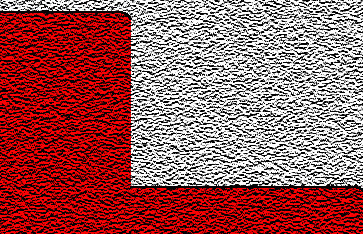Эмиграция как выбор: три судьбы
(по материалам одного архива[1]).
В 1918 году Александр Семенович Ященко, тогда ординарный профессор Пермского университета, специалист по международному праву и торговым договорам, прибыл в Берлин в составе советской делегации как эксперт. В архиве Ященко хранятся удостоверения университета и Народного Комиссариата по просвещению, Отд. Высш. Учебн. Зав., выданные весной 1918, речь в них идёт о командировке «за границу для научных занятий на летнее вакационное время 1918 года и на учебный 1918-1919»[2]. Однако ни в 1919, ни позднее командировка «закрыта» не была.
Во вступительной статье к книге «Русский Берлин» сообщается, что Ященко остался за границей по собственному выбору. Отказался вернуться – стал, по словам М.В. Вишняка, одним из первых невозвращенцев[3].
В самом ли деле именно так все и было, и если так, то каким было решение – трудным, лёгким? Было оно выношено в долгих раздумьях или родилось сразу и никогда не пересматривалось? Некоторые архивные документы если не оспаривают заявление Вишняка, то говорят о серьёзных колебаниях «невозвращенца». В 1920 году Ященко, во всяком случае, еще не знал определенно, какими будут отношения с родиной.
14 и 22 февраля набрасываются вчерне несколько писем, в том числе известным лицам – М.М. Литвинову (тогда члену коллегии Наркоминдела, советскому полпреду в Эстонии), поэтам Г. Чулкову (с которым Ященко был дружен), В.Брюсову. Всем своим адресатам Ященко сообщает, что собирается вернуться. В письмах к официальным лицам подчеркивает, что он в Берлине временно, уедет в обозримые сроки – «как только откроется граница», «когда снята будет блокада» (Набросок письма «Вениамину и Верочке» 22.11)[4]. Иные письма составляет так, чтобы читающий мог заключить: писавший думал о возвращении всегда, и лишь обстоятельства помешали желаемое выполнить (и продолжают оставаться досадной помехой). В наброске письма к Литвинову, например: «С тех пор я сижу без дела здесь в Берлине в ожидании времени, когда будет разорвано кольцо, которое окружило Россию». Формулировка такова, как будто об эмиграции Ященко н и к о г д а не помышлял[5].
Трудно сказать, правда ли Ященко с самого начала хотел вернуться – или решение созрело к 1920 г. Во всяком случае, в это время Ященко к нему склоняется. Слова о возвращении пишутся не просто для красного словца и не «впрок» – на случай, если в будущем окажется удобнее жить в России. Неверно было бы думать, что автор писем просто демонстрирует официальным лицам патриотизм и готовность сотрудничать, чтобы не закрывать себе дорогу назад. Друзьям он пишет о том же, о чем представителям власти.
Он настроен серьезно. Исполнение намерения представляется реальным и близким. К знакомым Ященко обращается с просьбой выяснить, в порядке ли его квартира (занятая другими людьми). Особенно беспокоит его библиотека и письменный стол с работами и письмами: владелец настойчиво просит узнать, сохранились ли бумаги, в целости ли они[6].
В письмах 1919-1920 гг. можно найти объяснение этой решимости возвратиться домой. Из письма в письмо повторяется один мотив: вынужденное безделье.
В эти годы Ященко готов заняться любым делом. Даже если оно будет бесконечно далеко от его специальности. В 1919 он сообщает одному из друзей, что нашел занятие по организации торговли между Россией и Францией. Ященко переписывается с официальными учреждениями, Скурмунтом (главой торгового дома, перебравшимся из России во Францию) – узнает, какие товары нужны, какие разрешены к ввозу-вывозу, каковы цены и условия оплаты. Переписка профессора права (!) заполняется обсуждением экспорта какао в зернах и прованского масла, дешевых тканей, каучука и нафталина; импорта электроаппаратуры и фармацевтических продуктов… Письма 1920 г. обрастают деталями: сорта’, размер пошлины, пути перевозки, объем партий и сроки, проценты комиссии… В 1920 г. составляются обращения к Представителю Российской Советской Федеративной Республики В. Коппу и к наркому просвещения А.В.Луначарскому: созрела новая идея, Ященко берется отпечатать в немецких типографиях учебники для Р.С.Ф.Р. С лета 1921 сотрудничает в американском ХСМЛ: руководит Русскими курсами заочного преподавания при берлинском отделении. Между делом выступает в периодике… Но все это, конечно, временные занятия.
Пожалуй, в русском интеллигенте пореволюционных лет сегодняшнему интеллектуалу нетрудно узнать себя: застигнутый перестройкой страны, он открывает, что невостребован; еще пытается заниматься наукой, но поставлен перед элементарной проблемой выживания, видит, что время нуждается в новых героях, берется за любую работу (откуда только силы и практическая жилка берутся…), пытается заняться даже торговлей (думая, что особого ума она не требует – разве желание тратить время на получение доходов) – и все это в надежде вернуться к привычном занятиям, когда положение немного стабилизируется.
Итак, «Сижу без дела», – досадует Ященко в письме к Литвинову 14.11.1920, «томлюсь вынужденным бездельем», – жалуется Л.Б. Красину[7] (с которым знаком постольку, поскольку в 1918 тот тоже был членом советской делегации в Берлине). 12.4.1920 К этому времени, видимо, уже стало окончательно ясно, что случайные занятия удовлетворить не могут и постоянными не станут, точка приложения сил все же должна соответствовать наклонностям и профессии.
Наверное, это было очень тяжело для специалиста по международному праву: думать о положении России, выстраивать «концепции» её будущего, видеть поле для работы – и чувствовать себя оторванным от дела, свои силы и знания обнаруживать никому не нужными.
К тому же, менялась экономическая и политическая обстановка, становилось другим и отношение к советской России. Кончалась гражданская война. Рос престиж страны, Европа нуждалась в ней (так, по крайней мере, ситуация виделась из Берлина). «Она из Сандрильоны превращается сразу в принцессу», – писал о новой России Ященко Г.Чулкову.
Вырисовывалась перспектива мирного построения нового государства. Ященко, как человек, по натуре настроенный на, так сказать, жизнеутверждение, предпочитал политической и военной борьбе – строительство, пусть даже и с новым режимом во главе. Эта позиция определилась уже в 1919[8].
Прагматика, житейский расчет, соображения о выгодах в планах Ященко, кажется, отсутствовали. О тяжелом положении в России, о нужде он знает (упоминает об этом), но как-то не принимает всерьез. Набросок письма к Чулкову: «22/11. Милый Георгий!
Прочитал в газете заметку из «Вечернего_____», и узнал, что ты жив и работаешь в Москве. Ты не можешь себе представить моей радости. Тут в газетах писали такие ужасы о голоде? в Москве и о ценах, что волосы становятся дыбом на голове. Зная твою? бедность, я болею за тебя. Обнимаю тебя нежно и Надю? Гр и Володю./…/ Я живу в Париже с лета 1918 года. Матильда[9] сейчас находится у родных, я был у нее три месяца. Видел Алексея[10]. Он живет у ? Скирмунта. Пишет роман «Хождение по мукам», который судя по первой части, обещает быть замечательным» и т.д. – метафора «волосы становятся дыбом на голове» призвана подчеркнуть силу сопереживания, но выражения сочувствия воспринимаются в ряду обычных конструкций частного письма (приветствия, повод к написанию, новости…) – и это придаёт словам о сострадании оттенок если не легкомыслия или беспечности, то недостаточной прочувствованности, недопережитости всерьез. Как видно из письма, не голод кажется главным автору – другое. Доминирует «теория»: размышления о России, восхищение её уникальностью (которая видится в том, что Россия одна во всем мире движима идеальными мотивами). Именно потому в Европе постепенно складывается представление о светлых перспективах русской жизни. «Новая Россия должна быть лучше, культурнее, просвещеннее старой. Старая была слишком развращена, ленива, апатична и труслива. «Но в испытаниях ? родной веры окрепла Русь Так тяжкий млат, будто стекло, куёт булат». /… /Из пережитого Россия выходит не посрамленной, а возвеличенной и ? просветлённой. Среди алчного мира Россия одна представляла идеальную идею. Влияние этой идеи за границей необычайно. Может быть, более даже чем у Вас дома».
Идеи о России и ее будущей роли в мире (несколько идеализированные) были настолько личностно важными, что стали темой Ященко-ученого, развивались в его книгах этого времени «Парламентаризм и советизм» и «Восточная федерация» (как явствует из писем, эти книги Ященко планировал напечатать в России и на основе их читать университетские курсы). В одной, как сообщает Ященко, он давал «критику парламентарщины» и искал выход в «советизме» – «что нового может внести советская идея в политическое строительство и каким образом, с точки зрения государственного права, может быть она осуществлена в жизни». В другой писал о «новом политическом мире, образовавшемся на Востоке Европы и том, какие причины, политические или экономические, должны привести к созданию Восточной Федерации»[11].
Что ж, теории (метафорический хлеб интеллигента) нередко определяют жизненные повороты и очень часто помогают важнейшим «судьбоносным» решениям…
Не все, однако, могут жить «при идее», от неё и для нее. На это не способен человек иного типа – земной, жадный к жизни, ищущий встреч с ней; и выбор места проживания у него неимоверно затрудняется.
* * *
Соколов-Микитов выехал за границу в 1920 году; в 1922 – вернулся. В архиве хранятся два любопытных письма его к Ященко, от 17/4 января 1925 г. и 17 января 1926 г.
Первое – написано в уверенном тоне. Автор доволен выбором, сделанным в 1922, гордится жизнью, какую ведет, даже хвастается ею: «рядом с волчьим городом, – я открыл такой: с улицами, с площадками для игры молодых, – у костра, под сало, которое так вкусно шипит над огнём; – кстати: нынче летом я пробовал один на неделю уходить в лес и целую неделю не видеть ни единого человека – это стоит всех Гарольдов и всех Кемпинских!)».
На Западе Соколов-Микитов личность свою ощущал неосуществлённой – в России смог удовлетворить потребность в жизни созерцательно-охотничье-бродяжьей. Поэзия описаний такого образа существования в посланиях Соколова-Микитова звучит убедительно – и это, пожалуй, доказывает, что пишущий искренен, он и в самом деле нашел то, что его душе было необходимо.
Собственно, выбирая жизнь в России, Соколов-Микитов на деле отказывался от городской жизни – в пользу природной: «Я третий год берложу в Кочанах почти безвыездно: оброс кудлом, сплю чутко, как дрозд на суку, и за полсотни шагов слышу, когда пробежит в траве мышь. Почти все это лето (когда пришло законное для охоты время) – я пробродил с ружьём по лесам, спал во мху, рядом с волчиными выводками, жарил на костре дичь и пил самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта (это совсем не похоже на [от руки]Luna Park и на Gаrold)»[12].
В Германии он чувствовал себя маленькой шестеренкой огромного механизма, обречённым вечно «крутиться», принимая не им заведенные правила существования; жизнь в центре цивилизации оплачивалась утратой самоуважения. Российская глушь освободила от непомерной платы за «преимущества» цивилизации: «…не свищу в кулак, не халтурю, не пресмыкаюсь, никого не бью по мордасам и меня не бьют, – а все это по нынешним временам ух какая редкость!..»[13] Любопытно: природа и городской мир в представлении Соколова-Микитова как бы поменялись местами. Именно в обществе уподобляешься «дарвиновскому» животному: «пресмыкаешься» либо силой занимаешь место под солнцем, сносишь толчки и выпады себе подобных, всегда готов к ним. (Если решил жить среди людей, должен принять борьбу за кусок как данность, как должное, как закон.) Природа же, как ее видит автор письма, более располагает к человечности. Можно и так сказать: цивилизация плебейски устроена – природа требует аристократизма. Тут даже не просто независим ни от кого – чувствуешь себя правителем, мудрым, справедливым, королевски-великодушным: «И кто я был в Берлине? А теперь я знаю, как поет каждая птичка, знаю всю соль охоты: умею щадить дичь, никогда не убиваю, когда мне не нужно – и как приятно отпустить жить какого-нибудь белопорточного зайчишку! – и сколько-сколько раз бывало: то заяц прибежит мне прямо в колени, то рябец подойдет так близко, что его можно взять рукою…»
Итак, собственно, не в родине или чужбине было дело – взвешивались природа и цивилизация, воля и зависимость от других, ощущение себя хозяином в своем мире – и презренная, унизительная необходимость поступаться собой, подлаживаться под чей-то (недостойный) образ жизни…
Казалось, открывалась возможность определить линию своей жизни так, чтобы никогда потом не раскаяться. Если бы только мы последовательно держались собственных установок, если бы самочувствие наше было в ладу с рационально выработанной «программой» жизни, если бы наши собственные потребности и желания были абсолютно прозрачны для нас…
Пожалуй, неудивительна неожиданная, на первый взгляд, смена настроений во втором письме: неудовлетворенность, внутренний надрыв, тоска. Мечта о далеких заграничных пространствах (теперь именно они видятся воплощением свободы) и отвращение к своему, родному. «На третий год все это мне отчаянно отошнело (все, кроме охоты): на мужиков, т.е. на Россию – я нагляделся всытость, глядеть больше не на что и я м у ч и т е л ь н о, из всех сил хочу хлебнуть моря и света».
Образ жизни не изменился; что же произошло?
Соблазнительно, но неверно было бы вычитать из письма разочарование в российской жизни и оправдание эмиграции. Второе письмо, конечно, ни в коем случае не запоздалое сожаление о выборе. И не возвращение блудного сына в цивилизованный мир. Скорее уж, очередная попытка убежать от этого мира: ведь российская глушь тоже ему принадлежит, при всей примитивности жизни ее обитателей; человек, обремененный семейством и домом, уже скован зависимостью от «общества», заключён в оковы «цивилизации» («теперь я связан, как овца на возу»)… Прежде автор писем рвался на родину, теперь – за границу, но если всмотреться, мотивы – все те же: желание избежать необходимости приспосабливаться, устраивать дела, ломая гордость, соприкасаться с бюрократической рутиной. (Не потому ли оказалось проще просить «д а л ь н е г о» помочь с визой, вместо того, чтобы самому заняться ею – в Москве: «…нравы московские таковы: чего зубом не ухватишь, того и не возьмешь /…/ и не люблю я Москву всею душою моею и всем помыслом моим»)…
Пожалуй, есть нечто трагикомичное в этих абсолютных переоценках родины-чужбины, в той легкости, с какой меняются местами пункты отправления-назначения (вместо «из города – к природе, на волю» – «из тесного мирка – в большой мир, к свету, свободе»). В этом … неумении? отдать себе отчет в своих побуждениях, в собственной природе, определиться в коренных ценностях. Беда человека «слишком земного» в том, что он, не умея найти себя, и в жизни не находит себе места – буквально: «географическая» проблема становится для него болезненной.
Кажется, иначе у тех, кто однажды как бы вторично родился во вневременном и внепространственном мире идей. Таким людям должно быть легче решиться жить вдали от родины: их настоящая «родина» иная, и, собственно, любая среда более или менее питательна для мысли, которая развивается, в общем-то, по собственной логике.
* * *
Для Б. Вышеславцева эмиграция (он поселился в Париже) оказалась поддержкой в философских размышлениях, подтверждала правильность любимой мысли о преображении Эроса. Об этом прямо говорится в письмах к Ященко, датированных 20 декабря 1925 и 18 апреля 1926 года. Темы писем сильнейшим образом связаны с идеями, вышедшей в 1931 книги Вышеславцева «Этика преображённого Эроса»; потому необходимо сказать о ней хотя бы несколько слов.
В книге Вышеславцев утверждает вместо этики старой, нормативной и «морализирующей» (требующей исполнения долга) – новую, где выбор диктуется любовью[14]. Вышеславцев рассматривает Эрос как мотив этического выбора и вообще как силу, явно и скрыто определяющую поведение человека. Она, эта сила, должна быть распознана и отдана наиболее достойной цели.
Подобные идеи, как известно, разделяли многие авторы ХХ века. Психическая энергия Эроса может и должна быть направлена на «творчество» – в этой мысли Вышеславцев сходится с Н.Бердяевым (его имя названо уже в авторском предисловии к книге). Можно было бы назвать и другие параллели. А.Платонов, например, многие годы одержим был мыслью бросить «силу телес» не на «производство потомства», но, например, на изобретение небывалой цивилизации, на антропотехнику – искусство строить человека[15].
Идея сублимации эротической энергии, конечно, перенята у Фрейда. Но во многом Вышеславцев с ним спорит. Саму сублимацию он понимает иначе, чем Фрейд. У Фрейда религия, искусство – иллюзия, по сути, это сексуальное влечение, и только; высшее сводится к низшему, «редуцируется». Поэтому критик Фрейда выступает с парадоксальным заявлением о том, что у Фрейда на самом деле нет сублимации (её подменила «профанация»).
У самого Вышеславцева сублимация – возвышение, преображение, пресуществление эротической энергии, она становится aufgehoben (снятой, уничтоженной и одновременно сохраненной, поднявшейся на высшую, принципиально иную ступень)[16]. Появляется возможность «Эрос» понимать расширенно. Он у Вышеславцева не исчерпывается libido. Он может быть плотским желанием – и воплощаться в поэзии или философии. В этом современный философ следует Платону, у которого Эрос – сила, движущая мирами – многолик, может быть низмен – и высок.
Однако какое отношение имеют все эти выкладки к рефлексии Вышеславцева-эмигранта? Как повлияла эмиграция на идеи философа?
В письмах Вышеславцев много говорит о Париже. Утверждает, что Париж имеет для него «провиденциальное» значение.
Вышеславцев описывает (понимая невозможность передать ощущения) парижский дождь, поэтичные улицы, помогающие размышлениям. Париж – прекраснейший город, располагающий к восхищённому любованию – и, стало быть, пробуждающий «эротическую», творческую энергию. Это важно: Эрос обеспечивает «рождение в красоте»[17], открытое глазу Прекрасное сказывается на порождённом…
Но Париж – «самый эротический город» ещё и потому, что наглядно показывает ступени Эроса и их иерархию. В письмах, адресованных Ященко, – философские размышления и бытовые, «эпикурейские» описания (обстановка квартиры знакомого, обеды, «чудное вино», русский ресторан и «хорошенькая русская барышня»)[18]. Париж, как никакой другой город, демонстрирует «лестницу восходящих блаженств», как пишет Вышеславцев. Тем легче выбрать достойнейший объект желаний: «Дистанция недоступности всегда создаёт туман очарования. Здесь этой дистанции нет. Ходи и убеждайся: внизу – «то, что чернь называет блаженством», выше – то, что нувориши называют блаженством; а дальше начинается восхождение по мере сил, насколько позволит сердце и дыхание».
В Париже Вышеславцев осознавал себя – место своей философской системы среди других, свои пристрастия. Он пишет: мудрость стремится к евдемонии – «в этом смысле я, пожалуй, «эпикуреец», точнее сторонник эвдаймонизма – блаженства, как цели философии. Однако «блаженство» не состоит для меня, как для Эпикура, в холодной ключевой воде и пшённой каше (довольно её поели в «пайках»)…, не состоит оно для меня и в обеде, вине и «галантных» rendez-vous! Париж лучше всего научает, что блаженство не в этом: он показывает это в бесчисленных экспериментах, со всех сторон и во всевозможных комбинациях. В этом его величие и глубина для искателя глубин».
И вот вывод: «Благословляй свою судьбу, что не уехал в Россию и еще раз благословляй, что приедешь в Париж»[19].
Может быть, в таком восприятии «столицы мира» было преувеличение, привнесённые «книжные» впечатления, самовнушение, некоторый самообман – эмигрант, который знает, что вернуться невозможно, ищет оправдания, высшего обоснования своему положению; но…
Париж больше вдохновляет, более располагает к верным ориентирам, чем Россия – пусть это иллюзия, но она была настолько сильной, что дала вполне реальный результат.
* * *
Что касается А.С. Ященко, он решение принимал, в конечном счёте, иначе – проще. Не по «теории».
Нашлось дело по душе. С 1921 редактировал журнал «Русская книга» (позднее «Новая русская книга»): уникальное библиографическое издание и сейчас очень высоко оценивается специалистами[20]. В 1924 открылось и место по специальности. Ященко долгие годы проработал профессором юридического факультета Каунасского университета.
В конце концов, существовало и совсем простое, но сильнейшее обстоятельство. В 1924 г. образовалась семья. Женой Ященко стала немка Алиса Кегель – родившаяся с мужем день в день (только на 22 года позже), конторская служащая – позднее она стала брать уроки живописи и рисунка и делала успехи: обнаружился талант…[21]
Кажется, именно житейские обстоятельства «укоренили» Ященко за границей – сильнее, чем это могли бы сделать любые теории и убеждения. Ященко любил жизнь, обнаружил умение выживать, приспосабливаться к новой среде; был «крепкий жилец», по выражению его знакомого, – качество, которое с разных точек зрения можно воспринимать с уважением или снисходительно, как бы то ни было, именно оно помогло ему жить дальше, работать – и послужить, по мере сил, России, ее культуре.
И ещё несколько слов – чтобы избежать непонимания. Двое остались в эмиграции и были удовлетворены жизнью, третий вернулся – и не избежал душевного непокоя. Заманчиво было бы вывести из трех судеб апологию эмиграции. Но было ведь и иначе (у Шмелева и Поплавского, Зайцева и Газданова…) Так что речь, собственно, о другом. О том, как часто настоящие мотивы выбора не ясны самим выбирающим. И о том, как много зависит от скрытых обстоятельств – от склада характера, целей и занятий… И, наконец, о том, что даже принципиальное и решительное «да» в пользу эмиграции из русской культуры не изымает.
[1] Nachlaß von Jaљиenko. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
[2] Письма цитируются с сокращениями, принятыми в подлиннике; орфография оригиналов (чаще всего соответствующая старым правилам) не соблюдается.
[3] Вишняк М. Дань прошлому Н.-Й., 1954. С.171.
[4] Обращение к Литвинову – в наброске письма к Кунце 14.11.1920 (в двух вариантах).
[5] Ср. Брюсову 22.11.1920: «Я уже полтора года живу в Германии, в ожидании, когда можно вернуться в Россию».из письма 14/11.1920 Владимиру Дмитриевичу: «С тех пор я живу в Берлине, в ожидании возможного возвращения в Россию».
[6] Может показаться эгоистичной эта забота о книгах и бумагах в первую очередь; но, видимо, так уж устроена душа книжного человека: главная страсть заставляет забыть о житейски насущном и – порой – даже о требованиях морали, теряется способность видеть себя со стороны… Утрированно – и выразительно – описал этот феномен Е. Замятин в «Мамае»: человек меняется, когда дело касается любимых книг: мышь съела деньги, желанную книжку купить невозможно – и мгновенно одичавший персонаж (вообще-то тихий и мягкий) заносит кинжальчик…
[7] Письмо 12.1V.1920.
[8] В одном из писем того времени говорится: «Нам нужно как можно скорее установить в России мир и приняться за ее экономическое восстановление. Главная опасность – затягивание борьбы. Если к зиме большевики не будут разгромлены, попытаться с ними сговориться. А то от России останется одно кладбище и пустыня, и очень тощим будет утешение, что это кладбище – противубольшевистское и пустыня – про-антантская»[8]. Это – в письме к другу, так что уверения (например, обращенные к «т. Красину»), в готовности «поработать для России» и «для великой идеи», которой служат адресат, – не расчёт, продиктованный конъюнктурой момента, а убеждение, отвечающее самому характеру Ященко.
[9] Первая жена Ященко.
[10] А.Н.Толстого.
[11] Письмо 22/11.1920 В.Я. Брюсову.
12] Письмо 17 января 1926 г.
[13] Письмо 17/4 января 1925 г.
[14] Прообраз альтернативы долга и любви Вышеславцев находил в христианской традиции, в противопоставлении Закона и Благодати у ап. Павла.
[15] («Родоначальники нации»). Идея трансформации половой энергии в творческую подпитывалась и планами Н. Фёдорова вложить силу размножения в дело воскрешения предков. Утопические масштабы, конечно, сохраняют красоту идеи. Но в «Антисексусе» Платонова уже отталкивает прагматика правильного обращения с эросом. Идея использования стихийных сил природы, как обнаружилось, прекрасно усваивается (и присваивается) тоталитарными структурами. Насильственно организованная жизнь иссушена, вызывает платоновские сарказмы, впрочем, не только смешна – страшновата.
[16] Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. (Б-ка этич. мысли) С.109-111.
[17] С.14. Ср. в «Пире» Платона: «Любовь… – стремление родить и произвести на свет в прекрасном» (Платон. Соч.: В 3 тт. М., 1970. Т.2. С.137. 206е).
[18] Письмо от 20 декабря 1926 г.
[19] Письмо от 18 апреля 1926 г.
[20] «Задача «объединения» литературы воспринималась 19 современниками как беспрецедентная по культурному значению и по смелости организации – в условиях крайней политической и географической раздробленности нации». «Сведения, рассыпанные на страницах журнала Ященко, во многих случаях являются если не единственным, то исходным источником наших знаний о данном периоде» (Русский Берлин1921-1923: по материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте /Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. YMKA-PRESS, 1983. С.18, 20). Ср.: «На днях я прочитал в «Общем деле», что ты будешь издавать русский библиографический журнал в Берлине. Известие это ? несколько подняло моё настроение: ещё не все погибло, если можно, черт возьми, заниматься русской библиографией…» – письмо Н.Н. Алексеева от 12 декабря 1920 г. из Константинополя.
[21] 1 февраля 1929 г. Ф.и Б. Дюшены пишут, радуясь успехам «Алиньки»: «Ты же, Сандро, заслуживаешь самой высокой награды как создатель Али».