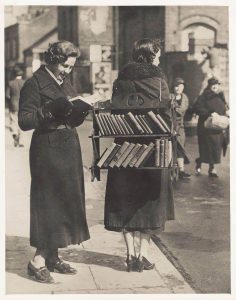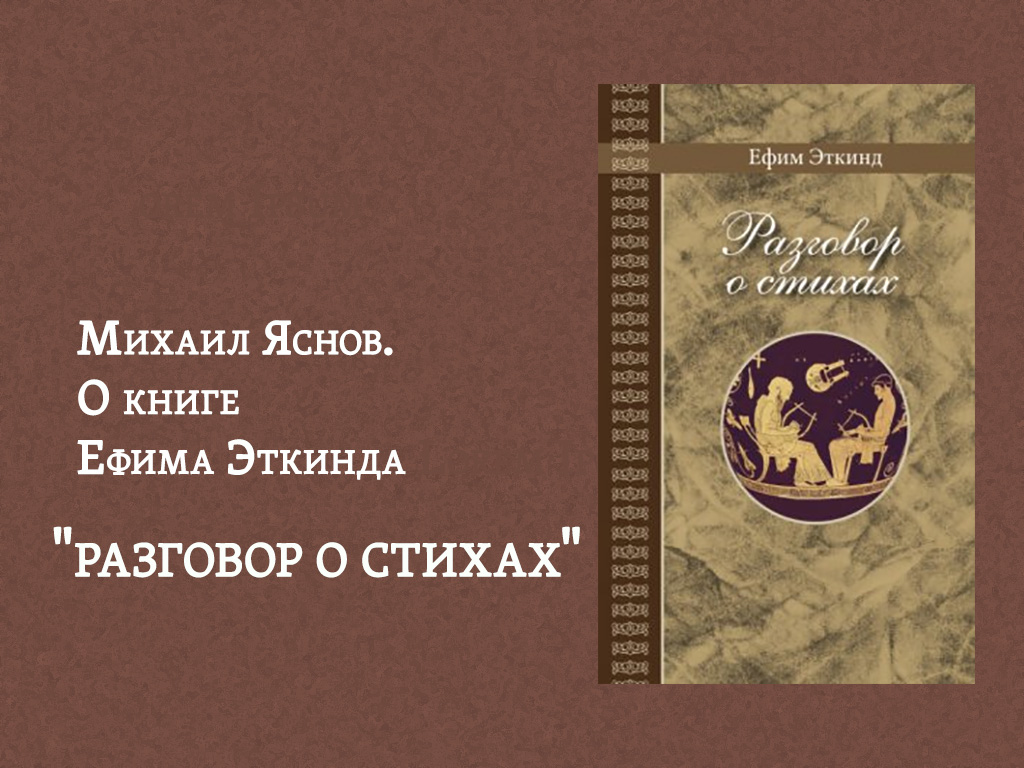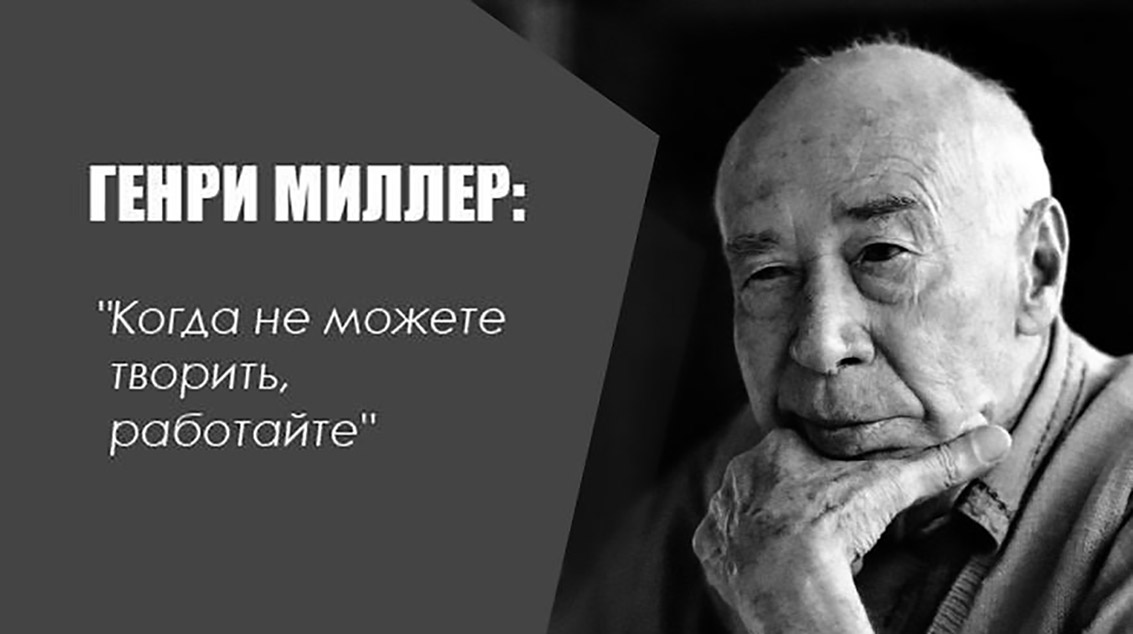Юрек БЕККЕР
О книжной угрозе
Есть у меня друг, о котором с уверенностью можно сказать: вот человек наших дней, — его отличает тонкое чутье к веяниям времени, и его образ жизни с тех самых пор, как мы с ним знакомы, всегда был и остаётся современным. Не в том смысле, что он всегда глядит в оба, лишь бы не прозевать какой-нибудь модной новинки, — нет, потому что он вполне доверяет собственному вкусу. Я другое хочу сказать: он наделён редким даром схватывать на лету все новое. Следить за вкусами эпохи ему совершенно ни к чему, и, тем не менее, он выступает как самый независимый их представитель. А если вдруг все-таки окажется, что он как- то нарушил требования общих вкусов, то можно биться об заклад на любую сумму: он всего лишь опередил своё время. Как вы могли заметить, я восхищаюсь моим другом.
Этот самый друг не так давно предпринял кое-какие изменения в своём жилище, которые поставили меня в тупик. Он выдворил из квартиры почти все книги. Нет, он не продал их и не раздарил, — зайти так далеко он все же не решился. Он сложил книги в ящики и картонные коробки, — кстати, там были великолепные редкие издания, — и отволок все в подвал своего дома. Оставил только один книжный шкафчик, — случайный гость вряд ли обратил бы на него внимание, но мне, постоянно бывавшему в этом доме, он напоминал о былом книжном богатстве, а значит, и огорчал меня. Несколько дней я ждал от друга объяснений. Я думал, что он все-таки не сочтёт за труд объяснить мне причины ссылки книг в подвал, — ведь я, как никак, писатель, а других знакомых писателей у него нет. Но он, по-видимому, рассуждал иначе: похоже, ему вообще было невдомёк, что эти изменения могли вызвать у меня какой-то особый интерес. Потому что однажды он даже попросил меня помочь расставить на освободившихся стеллажах, прежде битком набитых книгами, прекрасную коллекцию бокалов и рюмок — раньше они и в самом деле теснились на полке и плохо смотрелись.
Итак, мне пришлось задать вопрос самому. Я не мог не спросить: чем же не угодили ему книги? За что он так обошёлся с ними? Неужели удовольствие изо дня в день тупо глазеть на хрусталь и стекляшки настолько превосходит радость от доброго присутствия книг в доме? Не будет преувеличением сказать, что друг, выслушав мой вопрос, воззрился на меня с изумлением. А затем язвительно ответил, что если бы только мог догадаться, сколь большое значение имеет для меня расстановка вещей в его комнате, то он, конечно же, предварительно со мной посоветовался. Потом, уже более миролюбиво, он спросил, неужели я и вправду намерен ссориться из-за таких пустяков, и я ответил отрицательно, хотя отнюдь не считал, что речь шла о пустяках. Друг потрепал меня по плечу и подвёл к шкафу с книгами, которые все-таки пощадил. Он поинтересовался, заметил ли я вообще, по какому принципу отобраны им эти книги. Он отлично понимал, что я не рассмотрел эти книги как следует, — мой друг очень наблюдателен. Я высказал предположение, что в шкафу им оставлены так называемые любимые книги, а всем прочим пришлось убраться. Друг ответил: — Чепуха, — раскрыл дверцы и предложил мне ознакомиться с содержимым шкафа. Странную подборку книг я там увидел, но совершенно не случайную.
В шкафу стояли справочники: словарь синонимов, этимологический словарь, словарь грамматических трудностей немецкого языка, справочник по фарфору, энциклопедия живописи, словарь писателей, энциклопедия ковроткачества, многотомная энциклопедия, — в общем и целом, сотни полторы книг. Мой друг заметил, мол, теперь мне, наверное, все стало ясно, но, увы, мне ничего не было ясно. У меня прибавилось знаний о том, что он сделал, но не о том, почему. Я спросил, уж не собирается ли мой друг впредь всю жизнь заниматься разгадыванием кроссвордов.
Он и эту колкость мне простил, а вместо ответа, раз уж я оказался таким, на редкость недогадливым, прочёл целую лекцию. Ему очень неприятно, что приходится объяснять мне, именно мне, эти вещи. Но, что ни говори, настают времена, когда мы должны лишить книги нимба святости, который, как считают многие люди, их осеняет и который, между тем, не столько идёт книгам на пользу, сколько приносит им вред, что вполне очевидно, если подходить к делу без предвзятости. Ложное благоговение скорей отталкивает людей от книг и вовсе не способствует, как я, вероятно, ошибочно полагаю, любви к литературе. Просто абсурдно полагать, продолжал мой друг, что книги имеют вечный вид на жительство в шкафах и на полках, что книгам, хотя бы сами они были безумно скучны, а от обложек так просто с души воротило, дано право пережить все прочие вещи. Это абсурдное представление идёт из тех времён, когда чтение романов ещё считалось чем-то таким, что пахнет эксклюзивностью, — именно так выразился мой друг — ведь читателями книг, в основном, были люди, жившие в роскошных квартирах, где имелось так много комнат, что одну из них вполне можно было отвести под библиотеку, и хорошо бы, чтобы эта комната была круглой, вроде тех, что мы видим в кинофильмах. Я должен его извинить, сказал друг, но когда кто-нибудь упоминает сегодня о своей библиотеке, то ему это кажется чуточку смешным. Неужели я перестал замечать, в каких условиях сегодня живут люди? Разве не из-за того многие меньше читают, что постоянно опасаются, как бы не пришлось жить в условиях постоянного сокращения пространства, а все потому, что они покупают и покупают книги? Неужели я не способен понять, что популярность телевидения объясняется помимо прочего ещё и тем, что по телевидению каждый день идут новые передачи, но сам ящик при этом не увеличивается в объёме?
Я решил вернуться к исходному моменту нашего разговора и спросил, правильно ли я понял, что мой друг перенёс в подвал все книги, которые, по его мнению, скучны или грешат безвкусным оформлением, Он ответил: «Конечно, нет!» Если бы это было так, он не отправил бы в подвал собрание сочинений Гёте, изданное Коттой, — наверное, уж это-то я понимаю? Акт освобождения — привожу его выражение точно — был направлен не против случайно подвернувшихся книг, но против всей так называемой художественной литературы. Уже давно у него такое чувство, что его одурачили, что с ним сыграли рафинированную шутку, пущенную в ход книгоиздателями и книгопродавцами. Это они внушили людям мысль, будто бы книги — некий священный товар, который, в отличие от всех прочих товаров, нельзя, употребив, выбросить, хотя бы и выждав для очистки совести какое-то время, товар, который мы, однажды приобретя, обязаны сохранять до конца нашей жизни, пусть даже мы никогда больше не используем его вторично. Мы считаем кощунством попросту бросить книгу в мусорный ящик. Ещё в школе нас учат, что с книгами следует обращаться особенно бережно, что нельзя загибать углы страниц, нельзя ничего подчёркивать, нельзя пачкать книги. Учителя при этом выступают в роли агентов книгоиздателей и книготорговцев, Бог знает, по какой причине, — вероятно, потому, что и сами они жертвы последних.
Тут мне показалось, что мой друг начинает терять терпение из-за моей непонятливости: подобно человеку, который внезапно осознает, что понапрасну тратил время и шёл на никчёмные уступки, он теперь сделался не в меру напористым. А не на шутку он разъярился из-за моей реплики, — я сказал, что, по-моему, очень печально то, что сейчас явно начинается какой-то массовый психоз: все выбрасывают книги. Мало того, сказал я, что мы отправляем на свалку ценнейшее сырье и громоздим там горы отходов, чтобы освободить место для новых, якобы более полезных вещей, так теперь очередь дошла уже и до бедных книг. Мой друг вздохнул со страдальческим видом и сказал: «Уж ты, пожалуйста, не становись на путь нытиков и жалобщиков». Ведь, в конце концов, нельзя долго терпеть такое положение, когда создатели книг живут в основном за счёт нечистой совести других людей. Настоящего уважения к чему-либо невозможно добиться, просто все время требуя этого, оно возникает при условии, что предмету свойственно что-то, внушающее уважение. А утверждать, что любая, первая попавшаяся книга заслуживает уважения, глупо, и я не посмею это оспорить. Напротив, если выбрать наугад какую-нибудь одну из общей горы книг, катастрофически увеличивающейся, то вполне вероятно, что она окажется порядочной дрянью. Достаточно пойти в ближайший книжный магазин, — они же до потолка завалены хламом. Неужели я всерьёз вздумал требовать, чтобы он а priori испытывал благоговейную почтительность к подобной продукции? Мы не можем, — мой друг почему-то заговорил во множественном числе, — во все времена ставить собственную репутацию в зависимость от того факта, что когда-то раньше в мире были Сервантес и Шекспир или Флобер, да, пожалуй, ещё — Кафка. Это можно сравнить с тем, как если бы хозяева закусочных начали предлагать покупателям свои сосиски с кетчупом, рассказывая о том, что в далёком прошлом княжеские дома славились великолепными пиршествами. Всю справочную литературу он оставил в квартире по той причине, что ее присутствие для него значимо, так как она служит практическим целям. Он много раз обращался за помощью к каждой из этих книг. И наоборот, ни один роман он за всю свою жизнь не прочитал дважды, а большинство так и до середины не дочитал, в чём и признается вполне открыто. Уж он-то знает этих людей, которые уверяют, будто бы постоянно перечитывают какие-то определённые книги, и те для них, якобы, что-то вроде эликсира жизни, — большинство таких людей лицемеры. Они думают, что подобными смехотворными заверениями достигнут того, что их станут считать культурными людьми. Он ни в чём не упрекает других, немногих, людей, которые действительно перечитывают какие-то книги несколько раз, но, по его разумению, подобное поведение не лишено странности. Сам он читает какую-либо книгу, пока не поймёт ее или же пока не придёт к выводу, что она непонятна. Конечно, он не исключает, что от него, возможно, что-то и ускользает, а иногда, пожалуй, так даже и что- то существенное. Об этом можно сожалеть, но изменить тут ничего нельзя. Он не собирается превращать чтение в труд и копаться в недопонятых местах. Уж коли так, то лучше взять другую книгу, ведь чтобы получать удовольствие от чтения, нужно, чтобы не пропадал интерес к развитию действия, а в чтении без удовольствия смысла мало. Таково его мнение, и он вовсе не стыдится того, что его интерес к той или иной книге бывает полностью исчерпан, когда книга прочитана. «Ну да, а когда же ещё?» — воскликнул он.
Если среди многих сотен книг, которые он выдворил из квартиры, найдётся три или четыре, продолжал мой друг, в которые ему когда-нибудь, может быть, захочется ещё раз заглянуть, то, что же, из-за этого держать в комнате все-все книги? На его взгляд, подвал — самое подходящее место для хранения вещей, насчёт которых не можешь сказать, понадобятся ли они когда-нибудь, как раз для таких вещей и существуют подвалы. Не надо думать, что подвал и дорога на помойку — одно и то же. Так что книги прекрасно устроены, на случай, если они когда-либо ещё понадобятся.
В остальном же он советует нам, книголюбам, отказаться от нелепой шумихи, которую мы так часто устраиваем вокруг книг, отказаться от нашей, уже ставшей анахронизмом, сентиментальности. Возня вокруг книг для многих людей представляет досадный раздражитель, она вызывает отвращение к книгам, которого могло бы и не быть, она делает невозможным нормальное отношение к книгам. А отношение к ним, по мнению моего друга, является нормальным тогда, когда люди видят в книгах потребительский товар, когда мы вольны считать их полезными или же излишними, когда мы вправе обращаться с книгами так же свободно, как распоряжаются прочими неживыми предметами их владельцы. Мой друг продолжал: он вообще не может представить себе, чтобы кто-нибудь из друзей был в претензии на парня, который убрал из своей квартиры и поставил в подвале стулья или кастрюли. Когда людей заставляют верить, что книга является некой овеществлённой мыслью, это сущее мошенничество. С равным успехом можно назвать ее овеществлённой бессмыслицей, это обезьянничанье в угоду моде или результат обыкновенного стяжательства. К какой категории следует относить ту или иную книгу, — в этом каждая книга пускай сама нас убедит.
Встретившись снова, мы, точно сговорившись, не упоминали о книгах, сосланных в подвал. Ни он, ни я не забыли прошлый разговор, нет, конечно, однако мы оба очень старательно обходили все острые углы, потому что ни он, ни я не хотели понуждать другого отстаивать свои взгляды. Что касается меня, то было тут и ещё одно странное обстоятельство. Конечно, в прошлый раз, слушая импровизированную лекцию моего друга, я чуть не в каждом слове чувствовал вызов, а резкость иных его доводов меня злила и теперь не меньше, чем тогда, но все-таки я ощущал, что его тогдашние нападки на книги были отчасти справедливы. В них была правда. И какая-то очень современная правда. Он высказал недовольство, которое уже носится в воздухе, которое, по-видимому, нарастает и нам, книголюбам, не предвещает ничего доброго.
Тогда-то я впервые осознал, что чтение не является одной из прирождённых потребностей человека. Несомненно, существуют обстоятельства, которые этой потребности способствуют, и такие, которые ее убивают, и это можно утверждать, даже не зная, что же это за обстоятельства. Может быть, мой друг, обладающий по сравнению со мной более тонким чутьём, почувствовал, что эпоха литературы постепенно близится к концу, и я спросил, считает ли мой друг, что чтение как один из видов человеческой деятельности в скором времени исчезнет, — оставив пока что в стороне вопрос о том, кто в этом виноват, — и не обращается ли сегодня интерес, который раньше принадлежал книгам, на иные предметы, полагаемые более важными.
Друг рассмеялся, хотя я отнюдь не был расположен шутить. Он ответил, что уже сам мой вопрос, если не объясняет до конца, почему такое множество людей испытывает все большее отвращение к книгам, то, может хотя бы отчасти помочь нам разобраться во всем этом. Во-первых, я задал этот вопрос с таким выражением и таким тоном, как будто речь идёт о скором конце света. Он не хотел бы меня обижать, но даже если литературе и в самом деле угрожает гибель, — чего он, кстати сказать, вовсе не предполагает, — то все-таки это далеко не то же самое, что гибель мира. Но именно такова позиция многих литераторов, и она ужасающим образом нервирует публику: они считают, что литература — это пуп земли, мера всех вещей, и оценивают уровень развития цивилизации по тому, какое место в ней занимают книги. Во-вторых, в моем вопросе он подметил предательский укол: я, по его мнению, озабочен тем, перейдёт ли интерес людей от книг на другие предметы, полагаемые более важными. Насчёт этой формулировки — полагаемые более важными — с ее помощью я как раз и хотел однозначно выразить, что речь идёт о предметах, которые люди ошибочно полагают более важными. Действительно ли я придерживаюсь убеждения, что на свете нет ничего, сравнимого по своей важности с литературой?
И не теряя время на подготовку, он, в своей напористой агрессивной манере, принялся обосновывать свою мысль — мой робкий вопрос оказался достаточным поводом. Но на сей раз я твёрдо решил не довольствоваться ролью терпеливого слушателя, я собрался возражать другу равно энергично. При этом я подстёгивал себя тем соображением, что из-за людей, вроде моего друга, книгам сегодня несладко приходится. В конце концов, подумал я, он — жертва чумы, которая свирепствует по всей земле, это примитив, леность мысли, жажда развлечений. Лишь потому он и решил избавиться от книг. Ну, а поскольку на душе у него все-таки неспокойно, поскольку он должен как-то договориться с собственной совестью, то вот он и высказывается так резко. Известно ведь, что маловеры всегда выступают особенно рьяно.
Я сказал, что сегодня ему незачем пускать в ход своё остроумие, как в прошлый раз, суть не в том, означает ли падение интереса к литературе конец света, вопрос в том, стоит ли о ней сожалеть. Главное — каким средством остановить этот процесс. И ещё, вопрос не в том, идёт ли речь о важнейшей вещи на свете, когда мы говорим о литературе, что, кстати, может утверждать только идиот, но о том, почему она все больше и больше становится маргинальным явлением. И остроумные гиперболы моего друга ничуть не помогут нам в чём-то разобраться. Кроме того, я совершенно не представляю себе, куда он клонит, снова и снова упоминая о некой возне, которую якобы устраивают писатели. По-моему, это вполне понятно, если люди с особенной серьёзностью относятся к результатам своей профессиональной деятельности, да не только понятно, но и правильно. Для историка важнее всего прочего история, для орнитолога — птицы, а для химика — химия. Все они должны заниматься своей материей с таким пиететом, который другим людям наверняка может показаться преувеличенным, вернее сказать, почти всем другим людям, как бы то ни было, именно такой подход составляет условие действительно серьёзной работы. Было бы слишком просто объяснять падение интереса к книгам нарциссизмом некоторых писателей, да такое объяснение было бы вообще неверным. Речь тут идёт о периферийном, хотя и досадном явлении, но серьёзные причины падения интереса к литературе все- таки не в нем, а в чем-то другом. Слишком это было бы просто, — если бы писателям нужно было лишь изменить собственную позицию, чтобы литература снова оказалась в центре всеобщего внимания.
Но им вовсе не нужно изменять собственную позицию! — воскликнул мой друг. — Им нужно писать другие книги! Перестать создавать вечно все тот же, ничего не значащий хлам, либо всем приятный, как букетик фиалок, либо заумный. Он однажды прочитал очерк об одном писателе, имени которого сейчас не помнит, что по его книгам будто бы можно реконструировать эпоху, в которую он жил, даже если бы все прочие свидетельства эпохи были утрачены. Таких писателей и таких книг больше нет. Я подхватил: имя писателя — Бальзак, а его романы ты сгрёб и уволок в подвал. Мой друг продолжал: он думает, что через пятьдесят или сто лет наша цивилизация по каким-либо причинам перестанет существовать, и останутся только книги по воле счастливого или, напротив, злосчастного случая. И какую же картину нашего времени сможет составить себе по ним случайный исследователь? Я спросил: «Какой случайный исследователь?» Друг недовольно бросил: «Разве это сейчас важно?» И тогда я сказал: «Это вообще самый важный вопрос».
Потому что за вопросом, подходит ли к концу эпоха литературы, встаёт другой вопрос: не подходит ли к концу эпоха людей? Здесь не место выяснять, насколько неизбежно ведут к постановке этого вопроса наши жизненные условия, однако вполне очевидно — этот вопрос не высосан из пальца. Все больше и больше людей живут так, словно им дана лишь короткая отсрочка перед казнью, и о длительности этого срока лучше не задумываться. Следствие этого — известная безответственность, как в личном, так и в общественном, люди прожигают жизнь, транжирят все, что только могут ухватить. Растрачивают запасы, ничего не восстанавливают, влезают в долги, только дай. Вот, скажем, велика ли польза, которую мы получаем, уничтожая окружающую среду? Она совершенно несоразмерна величине ущерба, который мы одновременно наносим жизни будущих поколений. Это пустяки, — так мы, по-видимому, рассуждаем, — потомков-то все равно не будет. Все больше людей становятся похожи на того бедного малого, что пришёл к врачу и узнал, что жить ему осталось не более месяца. Ускользающее время жаль тратить на чтение, — возможно, кое-кто из писателей втайне думает так же, и, может быть, из-за осознания того, что книги стали чем- то незначащим, и происходит развал книжного дела. Я снова спросил друга, кто же будет тем случайным исследователем, который когда-нибудь попытается составить себе представление о нашей цивилизации — после ее гибели. Если стало расхожим опасение, что никакого такого исследователя попросту не будет, то это не может не иметь последствий для книг.
Мой друг заметил, что я сейчас грешу как раз тем, в чём только что упрекнул его: упражняюсь в острословии. Я будто бы цепляюсь за какое-то неясное представление, случайную и весьма маловероятную фикцию, чтобы с ее помощью объяснить весьма реальные недостатки современной литературы. Теория о скором конце света провозглашается то тут, то там, притом неизменно теми, чья логика зашла в тупик. Это спасительная теория — вроде сбережений на чёрный день, только в духовной сфере. Во все эпохи важнейшим качеством литературы была ее способность возвысить нас над убожеством условий нашей жизни и с высоты, — а иначе, то есть в наших жизненных условиях, это и невозможно, — увидеть современность, прошлое или будущее. Это качество нынешней литературой утрачено. Во всяком случае, ему, моему другу, нигде не удалось его обнаружить. Литература, по его мнению, не является ни на йоту менее пошлой и поверхностной, чем вся прочая интеллектуальная жизнь. И как раз в этом причина ее деградации и прозябания, а не какие-то страхи перед какими-то катастрофами.
Конечно, мой друг говорил не один сплошной вздор. Но мне показалось достаточно бессмысленным указывать на те моменты, в которых мы с ним сходились. Важнее было различие мнений. Каким бы уместным ни было сожаление о том, что книгам присущи все пороки, типичные для нашего времени, но, с другой стороны, нечего удивляться тому, что литература есть продукт своего времени. Я понял друга: современность какого-либо автора не должна исчерпываться тем, что в его творчестве проявляются черты ограниченности, свойственные эпохе, — он может описать эту ограниченность, обнажить ее, подвергнуть бичеванию в своём творчестве. Он может попытаться преодолеть ее. Но моему другу слишком понравилось сваливать ответственность только на нашего брата. Вина писателей по отношению к создаваемым ими книгам вполне очевидна, и я уже не раз признавал эту вину. Вина общества перед писателями, напротив, не столь очевидна. В эссе Эзры Паунда «Азбука писательства» есть такие строки:
«Время Шекспира было просто великим временем. Это была эпоха, когда язык наш ещё не сел на мель, когда слушатели ещё были по уши влюблены в слова…»
Помню, прочитав это, я подумал: какое, должно быть, счастье для автора, когда всюду вокруг такой интерес к словам, фразам и мыслям, не то что интерес — страсть. Я представил себе, как, наверное, воодушевляет писателя такой интерес, заставляет его отдавать себя до последней капли. Ведь и в других областях известен этот феномен: заурядная сама по себе футбольная команда, играя перед своими болельщиками, вдруг оказывается способной победить противника, который значительно превосходил ее силами. Спортивные комментаторы говорят, что дома и стены помогают. А наши бедные авторы… Они должны выкладываться перед аудиторией, которую интересует что угодно, только не их выкрутасы. Они должны писать, преодолевая холод равнодушия, ледяной ветер, который так силен, что снова и снова сбивает с ног, и лишь те, кто идёт по ветру, или нашедшие подветренный уголок, имеют шанс продвинуться вперёд на своём пути. Любовное отношение к языку, влюблённость в слово считают чем-то вроде курьёзного излишества, а в глазах иных людей это и вовсе — извращение, свойственное иным литераторам, которое не подобает выносить на публику. Я спросил друга, может ли он назвать требования, предъявляемые сегодня к литературе общественным мнением и не выполняемые ею.
Не надо наказывать его, как школьника, задавая подобные вопросы, обиженно сказал мой друг, ведь пока что не возбраняется критиковать какую-то вещь, не имея наготове определённой концепции ее улучшения. Через минуту он и сам сообразил, что подобное возражение выглядит жалко, и принялся перечислять недостатки и упущения современной литературы. Она ни к чему нас не обязывает, часто возникает впечатление, что для неё важнее всего ни с кем не ссориться. Ей не хватает одержимости, она озабочена тем, чтобы не выходить за рамки нормального, она не знает экстравагантных преувеличений, которые для всякой хорошей литературы являются вполне естественными. По-видимому, в глазах авторов ничто не имеет значения, кроме сбыта их произведений. Литература слишком благодушна, слишком неагрессивна, а это, в конечном счёте, значит, что она нерешительна, но, вместе с тем, мы же знаем, что у неё нет никакого по-настоящему сквозного принципа, кроме неистребимого благодушия и неустанных поисков консенсуса. Следовательно, литература всячески старается не быть пристрастной и не хочет наживать себе врагов. Наша литература напоминает ему, моему другу, некую великую конвенцию на вечные времена. Все это, в итоге, приводит к тому, что книги становятся все более похожими друг на друга, по крайней мере, так ему представляется, и, если он прочтёт десяток, то через некоторое время все они сливаются в его памяти в одну, в эдакий симпатичный нуль, и поэтому он, опять-таки, начинает задумываться, а не лучше ли было бы обойтись без чтения тех самых десяти книг? Ему не хватает в книгах непохожести, это — важнейшая утрата, потому что, если книги перестанут быть уникальными, то самое подходящее место для них — подвал.
Мой друг говорил, по большей части, искренне, не кривя душой, но теперь и это уже не могло помочь делу. Я спросил, действительно ли он считает, что уважения к книгам прибавилось бы, если бы они стали экстравагантнее, решительнее и агрессивнее, чувствительней или умнее. Он задумался, потом ответил: этого он не знает, а знает только одно, что лично он уважал бы их в этом случае больше. Я заметил, что это слышать приятно, но писателям этого, к сожалению, недостаточно. Не нужно, сказал я, делать вид, будто наши претензии к литературе, которые он перечислил, с которыми и я тоже согласен, это и есть требования, которые предъявляет к литературе современное общество. Напротив, — ведь не может он закрывать глаза на то, что как раз отсутствие решительности и ума (иными словами, бесхребетность) гарантирует хоть какое-то существование книгам, возможно, лишь в течение ограниченного времени, оставшегося до казни. И потом, где он углядел потребность в чувствительности? Где — стремление к радости от встречи с неведомым, которую способна давать литература в иные хорошие времена? Разве напротив, не в том дело, что всюду воцарился страх перед подобной встречей, а писатели все острее чувствуют, какое это бессмысленное занятие, — взывать к пустоте? Ладно, пусть речь в данном случае идёт о форме приспособления, которое можно осуждать, и, на мой взгляд, осуждать заслуженно. Но пора моему другу перестать подменять причины следствиями. Общество, все более превращающееся в общество дебилов, вынуждает и литературу становиться все более дебильной. И вовсе не наоборот. Может быть, литература ценой огромных усилий, ценой самоотверженных трудов писателей и сумеет чуточку замедлить этот процесс идиотизации общества, но остановить его она не в силах. Большинство авторов заняли в этой ситуации пусть не самую достойную, но все же понятную позицию, сказав себе: раз беды не избежать, лучше преследовать собственные интересы, чем становиться первой жертвой грядущей катастрофы.
Мой друг возразил: мол, мы все время говорим о разных вещах. Если он пытается растолковать мне, какие деформации обнаруживаются в современной литературе и как они повлияли на уменьшение его интереса к книгам, то я всячески стараюсь объяснить, отчего эти деформации возникли. Нет смысла продолжать в таком духе, ведь, даже если я доказательно изложу, по каким причинам в книгах поселилась пустота, то пустота от этого не исчезнет. Интерес моего друга к книгам таким способом оживить не удастся. Однако ещё больше его не устраивает в моих соображениях нечто иное.
Из моих слов можно сделать вывод, что писатели следуют своеобразной стратегии выживания, изгоняя из своих книг глубину мысли, красоту и значительность. Но литература не способна выжить, если она отказывается именно от того, что составляет ее суть, — невозможно выжить, отказавшись от самого себя. Если кошки ловят и едят птиц, то, что же, разве стал бы я говорить, что кошки — это форма выживания птиц? Выживание связано с сохранением идентичности выживающего, и это не вопрос интерпретаций, а вопрос логики.
Он решил идти дальше. Писатели, как он считает, по определению занимаются созданием литературы. Если же они начинают создавать что- то, заслуживающее любого другого наименования, но только не литературы, то позволительно задать вопрос: идёт ли речь в данном случае именно о писателях? Он — не из тех, кто не способен понять житейские трудности, и, если кто-то полагает, что ему лучше удаётся пробиться в жизни тем, а не иным способом, так это проблема самого этого человека и никого больше. Он же чувствует себя задетым лишь тогда, когда происходит мошенничество, вроде переклеивания этикеток. А оно уже давно происходит в области, о которой мы говорим. Большая часть того, что рядится в одежды литературы, это хлам, — он, мой друг, отдаёт себе отчёт, что выразился резко, — но так оно и есть, это духовное загрязнение окружающей среды.
От меня не укрылось, что в ходе нашего разговора я сделался перебежчиком: начал как обвинитель, а теперь оказался в роли защитника. Вероятно, последней, ещё оставшейся у меня писательской доблестью, было наличие собственной позиции, и, когда, наконец, между нами установилось некоторое единство мнений, во мне тут же родилось желание занять какую-то новую позицию. Во всяком случае, мне стало неприятно, что мой друг так упорно игнорировал важное обстоятельство: писатели — не только преступники, но и жертвы. Он сослался на то, что они являются писателями постольку, поскольку не похожи на всех прочих людей, и не согласился признать, что в писателях нет ничего сверхчеловеческого, — к сожалению, нет. В своей аргументации он незаметно выбрался за пределы нашей эпохи, да, именно в этом и было дело: он говорил так, будто оппортунизм и верхоглядство напали на наших писателей подобно некой неизвестной хвори, или неотвратимой судьбе. И от него просто отскакивали все мои замечания насчёт того, что данное явление, вероятно, имеет какие-то причины, которые лежат вне области литературы. Потому что тем самым я разбивал его аргументы, а значит, снижалась их значительность, которая была им так необходима, судя по вескости, с какой произносил мой друг каждую фразу.
Я сказал далее, что намерен атаковать его в точности тем же способом, каким он сам атаковал литературу, в точно такой же мере убедительно и одновременно несправедливо. Да, люди утратили вкус к чтению, да, всеобщая безграмотность растёт, как снежный ком, и это явления нашего времени; и ему, моему другу, не удастся отсидеться в сторонке, я же буду теперь говорить так, словно речь идёт только о нем, о его индивидуальном случае. Он попросту ленив, да, пожалуй, теперь ему уже недостаёт и живости ума, необходимой для чтения. Он уже привык думать, что не чтение, а другие занятия интересны и серьёзны, и этот его взгляд совершенно не зависит от подлинной значимости так называемых стоящих занятий, но является лишь следствием его произвольной оценки. Время он тратит на то, что слушает радио, читает газеты, сидит в пивных и ведёт с приятелями разговоры вечно все об одном и том же, смотрит телевизор, играет в карты, и так далее. На эти занятия уходит все его внимание. Чтение же означает необходимость совсем иных приоритетов, и он чувствует, что уже не в состоянии их установить. Если же к этому прибавляется ощущение, что книги не могут серьёзным образом что-либо изменить в нашем несчастном мире, — чего они, кстати, никогда не могли сделать, — то о любви к чтению и говорить не приходится. Но ведь он, мой друг, ни за что в этом не признается, вот потому он и перекладывает вину на других, то есть на литературу. И тем не менее, несмотря на все уже упомянутые и, бесспорно, существующие недостатки книг, читать их все же стоит. (Вот так просто заявил и все). В них все ещё содержится сколько-то красоты, мудрости и прозорливых предвидений, стало быть, лучше уж посвятить себя им, нежели повседневным бессмысленным занятиям, причём ведь мы делаем это отнюдь не в угоду книгам, а лишь ради себя самих.
Если мы перестанем заниматься какими-то сомнительными делами, продолжал я, то это лишь тогда действительно может принести нам пользу, когда мы, бросив бессмыслицу, примемся делать что-то, исполненное смысла. Простое высвобождение каких-то возможностей само по себе ещё не представляет ценности. Сегодня, когда я вижу, ради каких идиотских занятий люди перестают читать, когда замечаю, что едва ли какое-то времяпрепровождение люди считают достаточно скучным и пустым, чтобы предпочесть ему чтение, я, несмотря ни на что, чувствую солидарность с книгами, которые сегодня реально существуют. Люди от книг отвернулись, однако причина этого — не только качество нынешних книг, но и снижение общей способности воспринимать, исчезновение у читателей желания мыслить. Он, мой друг, сам служит тому убедительнейшим примером, когда заявляет, что в его квартире, где есть четыре радиоприёмника, два телевизора, проигрыватель, магнитофон, музыкальный центр, сотни аудио- и видеокассет, не стало места для стихов и романов. В его решении относительно книг мне видится что-то отвратительно разнузданное, а квартира его теперь будет постепенно превращаться в некое развлекательное заведение. И не стоит ему обманываться на тот счёт, что основания, которые он привёл в пользу сокращения чтения, а в конце концов — к его полному прекращению, более состоятельны или, ещё того лучше, более благородны, нежели мотивы многих других людей, — и здесь и там налицо в точности те же неубедительные доводы. То, что он более толково излагает свои мотивы, чем большинство других людей, и так ловко маскирует красивыми словами свои достижения, которые на самом деле есть антидостижения, ничего не меняет в этом печальном факте. Мы могли бы обойтись без нашего долгого диспута, добавил я, если бы он с самого начала сказал, что в будущем хочет обратить те усилия, которые ему все больше и больше приходится затрачивать при чтении книг, на занятия полегче.
Мы находились в его доме, поэтому мой друг не мог просто встать и уйти. Он несколько раз прошёлся по комнате, и я понял, что он подыскивает слова, чтобы дать мне достойную отповедь. Наконец он сел, вымученно улыбнулся, причём лицо его осталось мрачным, и сказал, что я веду себя в полнейшем соответствии с известной моделью, разработанной в психологии, а именно, личную неудачу пытаюсь представить, как социальное явление, чтобы таким образом придать ей вид чего- то естественного и необходимого. В глубине души я отдаю себе отчёт, что все мои писательские творения были для меня самого известным разочарованием; ничего другого и быть не может, если сравнить их с теми теоретическими требованиями, которые он, мой друг, не раз слышал из моих уст. Но я и не подумал смириться с тем, что мои писательские возможности ограничены, я, пребывая в заблуждении, свой крах как автора рассматриваю как гибель всей литературы. Однако даже этого мне мало, и я неистощим на выдумки при поиске доказательств моей невиновности, мол, и литература не виновата в своём провале, а следовательно, и писатели ни в чем не виноваты, на самом же деле виноват во всем некий дух времени. Это из-за него в головах у людей туман, из-за него они стали невосприимчивы к прелестям книг, это дух времени завлекает людей идиотскими удовольствиями и превращает вчерашних книгочеев в современных кретинов. А так как и писатели находятся во власти искушающего их демона, то есть духа времени, их продукция также понемногу приспосабливается к новой ситуации, а затем и вообще становится излишней. Итак, круг замыкается, — мой друг с ухмылкой подвёл итог: где тонко, там и рвётся.
Я подумал: ещё лучше было бы, если бы плохим писателям запрещалось размышлять о состоянии литературы и всего мира. Хватит и того, что жаловаться на литературу могут плохие читатели, а их наверняка больше.
Но вслух я сказал, что лучше нам не переходить на личности, поскольку это ничего не даст для разрешения нашего спора и вряд ли пойдёт на пользу нашим взаимоотношениям. Друг кивнул, но по выражению его лица я понял, что он очень неохотно со мной согласился. Я продолжат может быть, нам удастся лучше понять друг друга, если мы станем рассуждать следующим образом. Одно из важнейших достижений литературы, если не самое важное вообще, состоит ведь в том, что она позволяет читателю увидеть самого себя. Но человечество сегодня живёт, постоянно ощущая угрызения совести. Оно недовольно собой, пожалуй, оно отвратительно самому себе. Оно не только не хочет ничего о себе узнать, оно не скупится на любые усилия, лишь бы продолжать обманываться относительно последствий своих собственных деяний. Из-за этого положение литературы становится безнадёжным: немногие книги, в которых делается попытка разоблачить самообман, наталкиваются на железное сопротивление.
Мой друг, прикинувшись дурачком, спросил, что все это должно значить, — о каких угрызениях совести я веду речь? Я ответил, что, если бы он не отправил все книги в подвал, то я нашёл бы и привёл ему одну цитату, в которой даётся лучший ответ на его вопрос, чем тот, что могу дать я. Друг поднялся, на сей раз — с решимостью человека, который вознамерился непременно довести начатое дело до конца. Он отвёл меня в свой подвал, по дороге спросив, какого автора надо найти. Я ответил: Зигмунда Фрейда.
На пронумерованных картонных коробках, громоздящихся до потолка, были указаны имена авторов. Фрейда мы обнаружили в коробке под номером 12.
Цитата, которую я искал, чтобы прочитать другу, была из статьи «Неприятное в культуре». Вот она: «Люди зашли сегодня в подчинении себе сил природы так далеко, что с помощью этих сил им уже нетрудно истребить друг друга до последнего человека. Они это понимают, и отсюда значительная доля их нынешней обеспокоенности, их несчастий, их страхов».
Фрейд написал эти строки в 1930 году. Я подумал: насколько же выросли за истекшее с тех пор время и обеспокоенность, и несчастья, и страхи, ведь люди уже усовершенствовали свои умения настолько, что выпущенные ими на свободу силы природы вырвались из человеческих рук и угрожают жизни людей. Лишь немногие все-таки верят в сколько-нибудь достойное будущее, культура же имеет значение только для таких людей, для тех, кто считает ее чем- то, что дóлжно хранить, чем-то, что несёт в себе будущее. Что ж удивляться, если книги исчезают, сказал я.
Друг усмехнулся: «И ради этого надо было спускаться в подвал?»
Мы проговорили ещё некоторое время, но разговор шёл все более вяло и равнодушно. Мы оба, пожалуй, уже отчаялись по-настоящему убедить друг друга в своей правоте и, честно говоря, в какой-то момент я вообще перестал понимать, где моя позиция, а где — его. С тех пор мы встречаемся лишь изредка, а когда все-таки видимся, то оба трусливо уповаем на то, что никто из нас не заведёт опять разговор на эту тему.
Франкфурт на Майне, 1990 г.
Перевод Галины Снежинской
©Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.