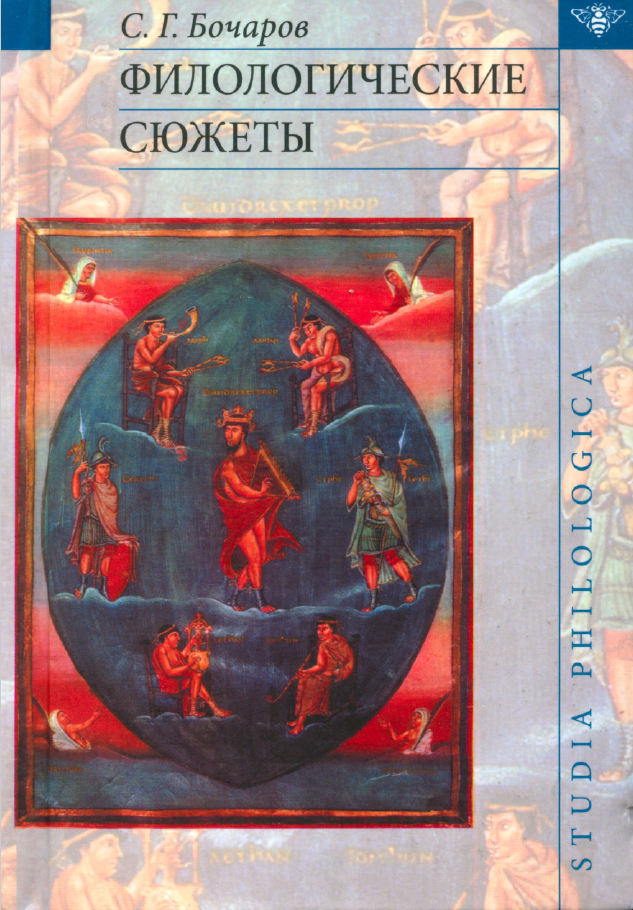Март 53-го
1-го марта, часов в 10 или 11 утра, я вышел из дома. Дома лежала маленькая дочка, ей было полгода, и я отправился в пункт питания за каким-то положенным ей молочком. В почтовом ящике на двери я не нашёл газеты (тогда ещё их разносили по этажам), что было фактом чрезвычайным и непонятным: каждое утро в 8 газета всегда лежала, это было тогда как часы. Спустившись, я заглянул в киоск рядом с домом, там, как всегда, сидел знакомый киоскёр, старый интеллигентный еврей. — Вы не знаете, почему не пришли газеты? В ответ он поднял на меня взгляд, который я оценил лишь потом. — Говорят, есть важные новости, ответил он значительно как-то. Я ничего не понял и пошёл за молочком, и лишь потом я вспомнил этот взгляд и, как мне кажется, рассмотрел в нём тщательно скрытое торжество. Важные новости прозвучали днём по радио, и мы впервые услышали незнакомое слово «коллапс», которое, помню, произвело тогда жуткое впечатление.
7-го или 8-го рано утром (наверное, 7-го) позвонил Гена Гачев, он специально приехал из Брянска, где работал по распределению в школе, и мы пошли хоронить вождя. Недавно, уже сейчас, в феврале 2003-го, я был у него в Переделкине, и после лыж за столом, в предвидении наступающей годовщины, мы вспоминали это. Был за столом и Юрий Кублановский, и как старый антисоветчик удивился: — А зачем вы ходили, можете объяснить? Через несколько дней мне тот же вопрос задал внук Митя: — А зачем ты ходил? Тому и другому я отвечал: — Из исторического любопытства, — но чувствовал, что объяснение недостаточное. Всё-таки любопытство чувство мелкое, непочтенное, а тут что-то было такое серьёзное, что надо было это видеть и при этом присутствовать. Об этом сильно— у Германа Плисецкого, поэта, теперь уже покойного, с которым я близко познакомился после, в 60-е. Он был накануне на самом гибельном месте, на Трубной, и еле вышел, а уже в 65-м написал поэму «Труба» — что значит и место действия, Трубная площадь, и та Труба, что поднимет всех на последний суд: Труба, Труба / В день Страшного Суда ты будешь мёртвых созывать сюда… Так вот, у Плисецкого:
В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь, как все,
объём теряю, становлюсь картонным.
Безликая, подобная волне,
стихия поднимается во мне,
сметая милицейские кордоны.
Вот и нас волна-стихия погнала. Но было всё же и что-то более сознательно-подсознательное, что можно было осознать лишь потом. Было чувство, о чём я уже сказал, — чувство, что надо это видеть. Было чувство такой исторической перемены как перемены всей жизни, что не только со мной — со всеми — свершается в первый — и, может быть, единственный раз. Это в воздухе было. Мы с Гачевым только что вышли из университета, 1947—1952 — такие были наши университетские годы, сразу после доклада Жданова и накануне смерти вождя. И было тогда особое чувство того послевоенного восьмилетия, не повторившееся затем никогда; я уже писал об этом однажды, в одной из полумемуарных статей, повторю еще раз. Чувство это не сознавалось ясно, не проходило в светлое поле сознания, но оно реально в нас было. Это было чувство, что никогда ничего другого не будет, всегда будет то, что теперь. Теоретическое знание, что когда-нибудь и смерть Сталина может случиться, было непредставимой абстракцией. Уже гораздо позже можно было осознать, что это был особый опыт переживания вечности. Когда впоследствии я рассказывал об этом чувстве того времени тем, кто помоложе больше, чем на поколение, они говорили, что такое же чувство было у них в брежневские, 70-е, «застойные» годы, и это можно было понять на их месте, но странно слышать, — для нас в 70-е время неслось, и возникало непрерывно что-то новое, все читали Веничку и раздавался из окон трубный (тоже по-своему) голос Высоцкого, самый громкий хриплый голос эпохи, уже не единицы, как раньше, а многие читали и Розанова с Леонтьевым, и даже можно было уже об этом писать и что-то даже немножко печатать, а там и действо под названием «Классика и мы» в 77-м состоялось, и это тоже было событие выразительное как свидетельство, как языки развязались в разные стороны; время неслось стремительно к краху советской вечности в середине 80-х — а задан, заложен был этот крах задолго — в марте 53-го.
И вот в те дни похорон и почувствовалось это уже — что время двинулось, часы пошли. Это сразу почувствовалось, и не только мною и теми, кто понимал гораздо больше меня. Это всеми почувствовалось, и я тогда на улице это увидел, наверное, для того и ходил. Не все мне верят, но я могу рассказать, как я это видел, — я не увидел особой скорби, а было — на лицах прямо — что-то другое, что я опять же позже, задним числом почувствовал-осознал-увидел как ожидание— ожидание перемен. То самое чувство, что кончилась вечность и часы пошли (и пошли так быстро, как невозможно было себе представить; и дальше шли уже без остановки, хотя и с замедлениями, с аритмией, как у тяжелого сердечника, до середины 80-х). Ожидание перемен как главное настроение, с чем-то даже вроде нетерпения, и даже в толпе наблюдалось что-то вроде азарта, с каким не только разные ребята, но и сами мы, по Плисецкому, сметали милицейские кордоны. И в самом деле сметали: я увидел в Столешникове знакомого с факультета, он был у нас член партбюро, а при этом прямой и смелый парень, не знаю, жив ли, он перепрыгивал с машины на машину, которыми перегорожен был переулок, а за ним гонялась милиция.
В страшном месте на Трубной и на бульварах мы с Гачевым не были. Мы сразу пошли пробиваться в очередь через Столешников. Его короткая узкая кишка до Пушкинской была вся забита людьми, это тоже была труба, но уже не такая страшная. Чуть углубившись в толпу, я попал в трубу и почувствовал, как сдавило со всех сторон, и стало страшно, о том, что было на Трубной, все уже знали, вся Москва говорила. Я понял, что надо выбираться назад, оглянулся — за мной уже метров 5 сомкнулось, в таком котле это много. Но выходить из котла надо было — я стал бить ногами по ногам и так прокладывать себе дорогу, и так вышел. С Гачевым мы потеряли друг друга, я встретил другого знакомого с факультета — Артёма Анфиногенова, и мы пошли пробираться другим путём. И пробились в очередь перед самым входом в Колонный зал, и вошли туда. Там было новое сильное впечатление, оно было в том, что видно не было ничего. Работают Бетховен и Шопен, вспоминает Плисецкий — да, это было слышно, но что было видно?
Там саркофаг, поставленный торчком.
с приподнятым над миром старичком —
он был приподнят над миром, но от нашего глаза скрыт. Мы, наша людская лента, протекала на таком космическом расстоянии от предмета и от центра мирового притяжения, от гроба, что видно было издалека только что-то на возвышении утонувшее в цветах. Видно было только цветы. За что гибли люди? За то, чтобы ничего не увидеть.
9-го я в гостях второй раз в жизни смотрел телевизор — КВН с линзой, кто помнит (дома ещё, конечно, не было; первый раз перед тем и тоже в гостях я смотрел по этому КВН какой-то футбол). Смотрели похороны, которые вёл с мавзолея «председатель комиссии по организации похорон» (ещё не знали и не могли себе представить, как будет эта роль продолжена в действиях этого человека в ближайшем будущем) Н. С. Хрущёв. Но не его тогда выступление, а речь Берии с мавзолея была единственным выразительным впечатлением. Она была искусно построена риторически, по правилам кавказского красноречия, ритмически на повторах: — Кто не слэп, тот видит… (так же риторически, на повторах, сам Иосиф Виссарионович в 1924-м провожал Ильича: — Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам…). И можно ли было знать, что будет с этим ритором в самом уже близком будущем? Эпоха классической сталинистской риторики завершалась, впереди были иные «речевые жанры» — хрущёвская речевая вольница, брежневское мычание, водяная мельница горбачёвская и так далее.
Это было 9 марта, а дальше — часы пошли быстро, уже в апреле освободили врачей-вредителей, и уже где-то в мае-июне — не все помнят это — появился в официальной прессе осуждающий термин «культ личности», — не называя пока по имени личности, но слово было уже найдено, а до имени пришлось подождать еще года два с половиной —до XX съезда.
2003
С.Бочаров. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 621-624.
Все книги Сергея Георгиевича Бочарова можно свободно читать на его персональной странице в библиотеке imwerden.de