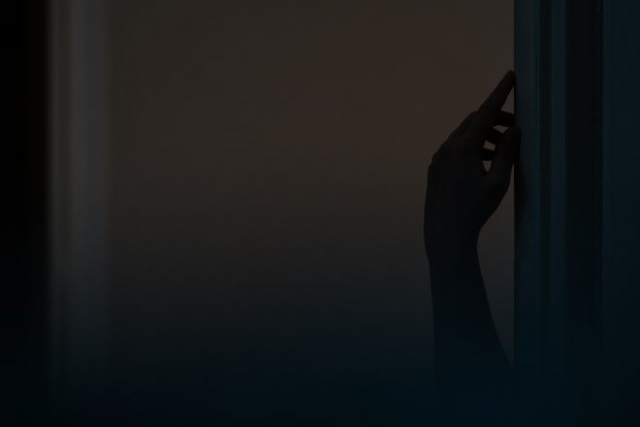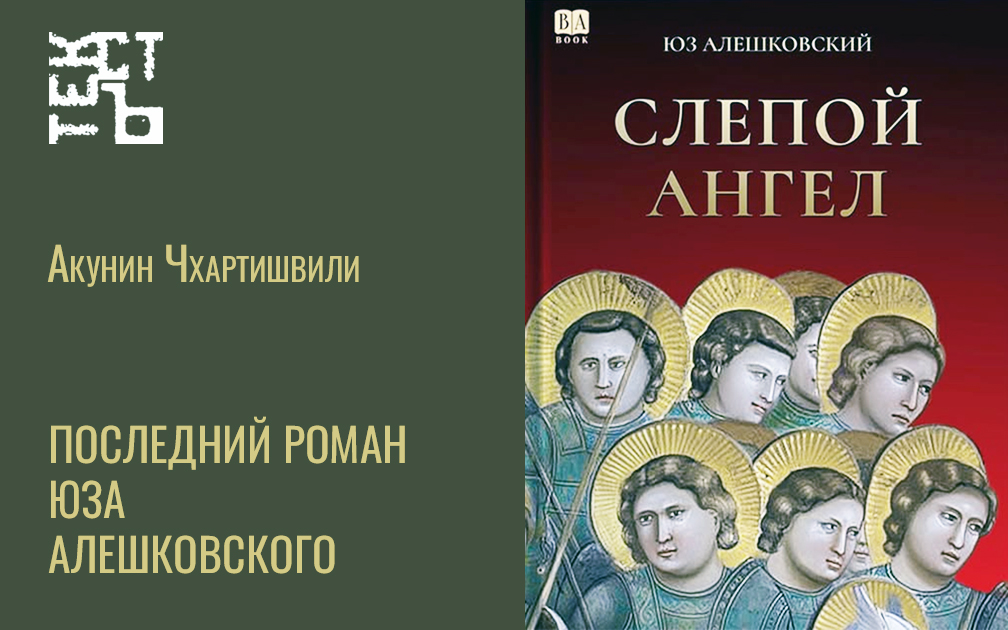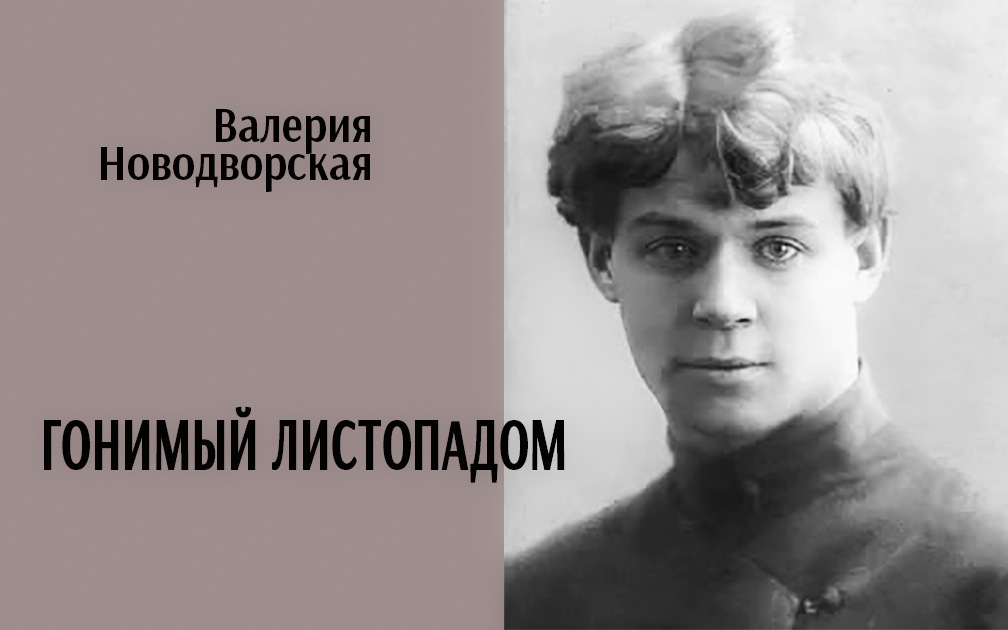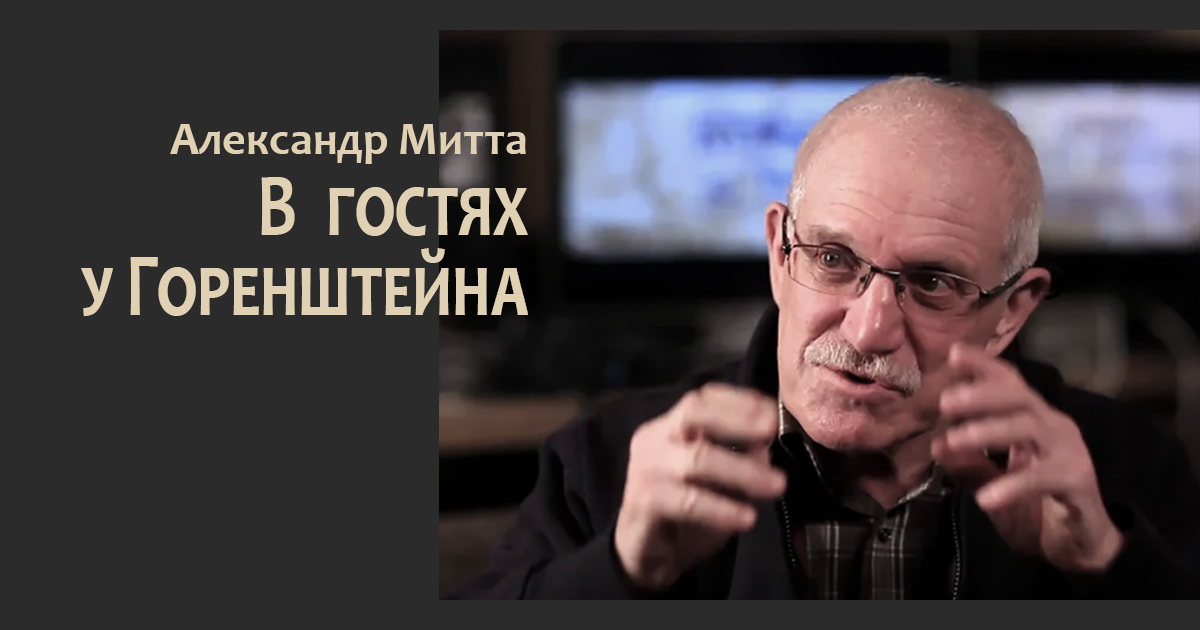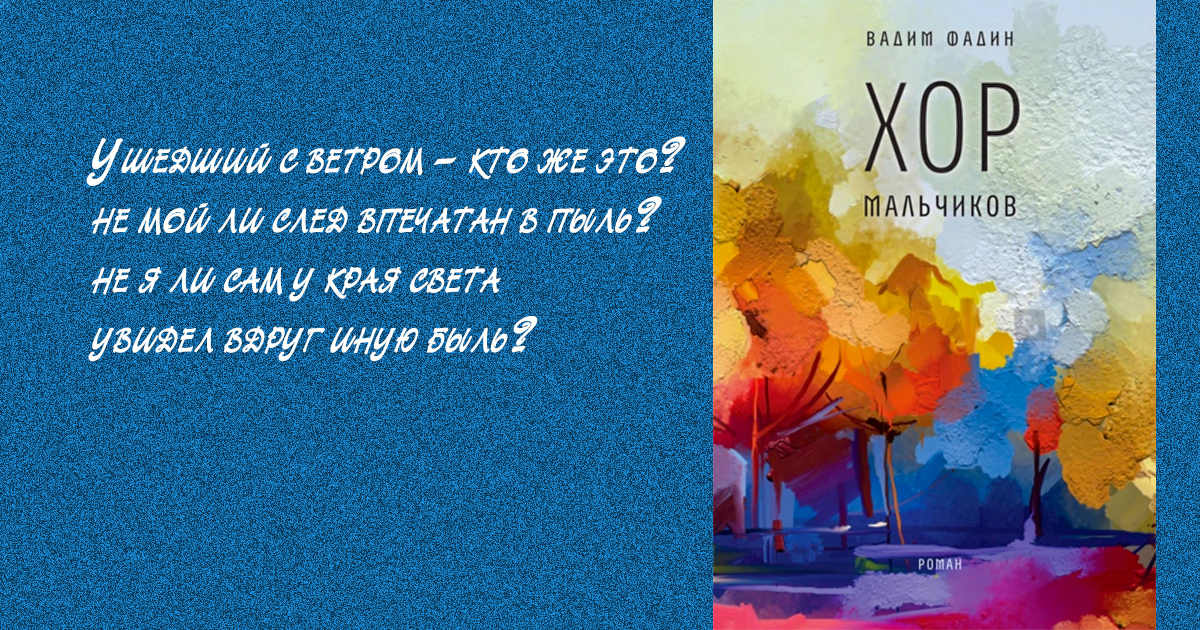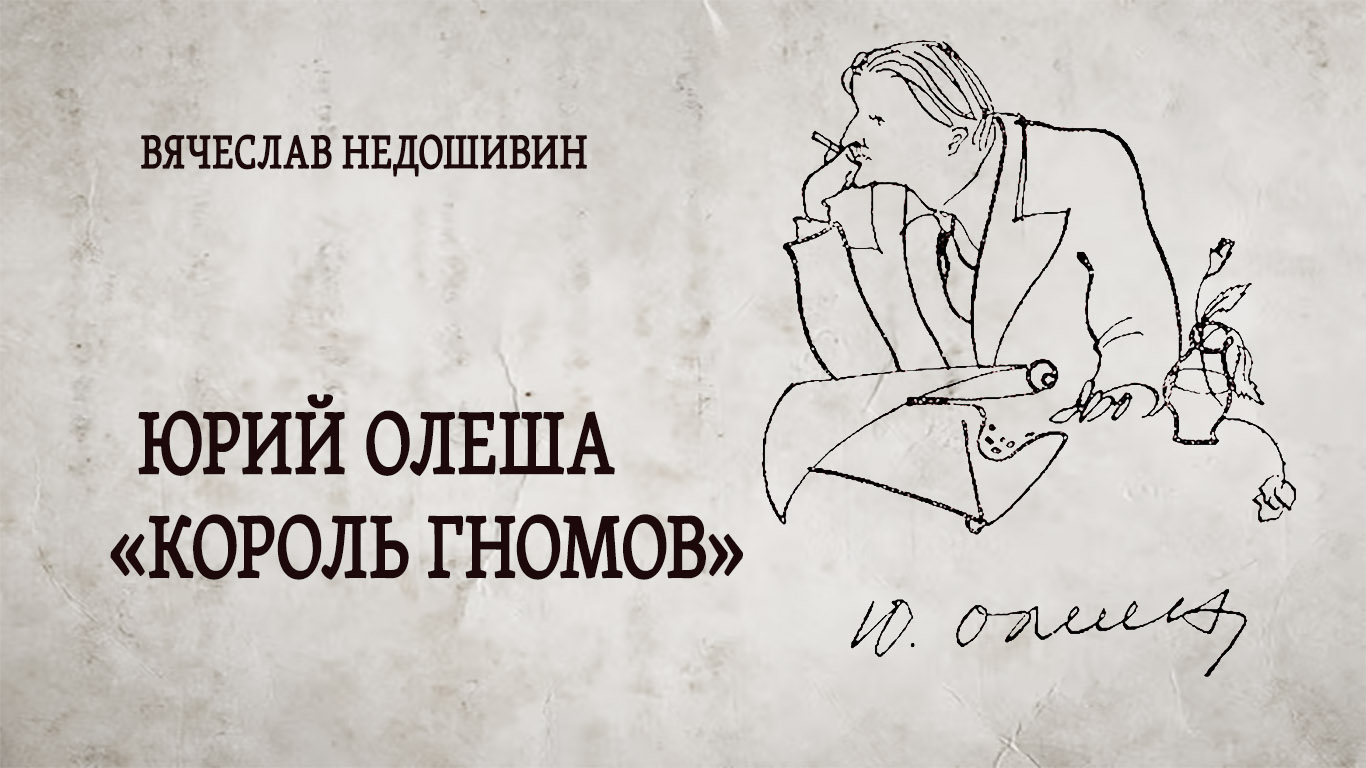КАПСУЛА ШЕСТИПАЛОЙ
Вообще так вышло, что самыми холодными днями этой зимы были первые три дня весны. Конфликт тёплого и холодного. Какая-то грубая нестыковка. Но в конфликтах ведь всегда что-то есть, особенно если они изнутри, из-под капсулы. Даже если кажется, что всё случилось без тебя, вне тебя. Эти конфликты сбивают нас с отлаженного ритма, смещают с обжитых позиций. Что-то же должно нас растрясти.
Иначе глаза привыкают к темноте, если дать им время. Просто уткнись и жди: черная гуща станет медленно отступать, задвигаясь в углы, вползая в щели. По крайней мере, тебе кажется, что ты берёшь над ней верх, но ведь это ты сам стал темнотой. А посмотри обратно на свет: ты слепнешь, ты выцветаешь. Тлеешь, как лист бумаги, — с краёв к самому центру. Ты теперь — темнота.
Тогда закрывай глаза. Если зажмурить глаза, крепко прижав подушки пальцев к векам, то можно увидеть собственные зрачки. Они как белые пятна в черноте: то исчезают, то потом снова всплывают. Постоянно дёргаются. Кажется, что ты смотришь в себя. И там ничего нет. Одна сплошная чёрная дыра и лишь два белых пятна, которые мигают, как одинокие рекламные щиты между городами в ночи. У меня шесть пальцев руки. Если смотреть на пальцы очень близко, их ровно шесть. Если долго смотреть на Берлин, он раздваивается. А потом рассасывается. И снова приходит темнота. Темнота, в которой следующий шаг — это уже открытый космос.
Но вот он, город, заселённый людьми, полными жалости и сострадания к себе, соревнующимися в своём одиночестве. Они выбираются на свет из своих коробок и расползаются по улицам, растекаются по перекрёсткам. Хочется схватиться за чей-либо воротник, потрясти и прокричать: пора спасать других, уже совсем пора! Но им кажется, что они как раз и спасают людей. Что они уже в том самом пекле, куда я их зову. Хуже того, и мне кажется, что я спасаю людей. Но это мы всё понарошку.
По Берлину расползается человек осебевший. Хочет стать спасительным символом. Хочет повести за собой людей. Хочет, чтобы вся эта тягучая толпа растворилась в нём, а не он в ней, как это обычно бывает. Мы смотрим друг на друга коровьими глазами. Такими смотрели герои Сильвестра Сталлоне на своих приятелей поневоле. Это когда случилась конкретная херня, давно случилась, и тебе уже вроде пофиг, но взгляд укоренился. Другие смотрят, как вечно-живые Джимы Керри, которые ещё не доплыли до конца горизонта и не ткнули в него пальцем.
Мы натягиваем носки с психоделическими картинками. Чтобы все картинки сползали из головы в ноги. Потому что все картинки осточертели. Вроде кусочки одни и те же, а собираются, будто в глазке калейдоскопа, всегда по-новому. Как никогда раньше, нам хочется походить на богов. Самозваные такие боги и богини. Мы теперь делимся не чувствами, а своим местоположением: не срезался на фейс-контроле Бергхайна: идол. Страдаешь — значит, знаешь и чувствуешь больше, чем другие (о чём с ними вообще теперь говорить?). Не трахаешься — значит, мутировал в некую новую, высшую материю. Если носишь винтажный Адидас — тебе проложена тропинка в богемный андеграунд, и все вокруг млеют.
Но если оглядеться, то все мы похожи, как сумки Луи Виттона. Хотя мы и говорим о разных людях — оно и понятно — мы же всегда теперь говорим только о себе, тем не менее, мы одержимы одной всеобщей целью: выстрадаться на всех вокруг, чтобы самого отпустило. А когда страдание отступает, нужно срочно нагонять. Все теперь на маршах. Все — борцы за права обиженных. Даже не представляю, как вообще можно в этом мире выжить, если вовремя никуда не притереться. Неформат, получается. Нехорошо.
Спроси нас, так мы сворачиваем горы и можем даже сверх того. Не спросишь, сами вызовемся рассказать. А в свободное от публичности время выдавливаем весь свой снобизм в унитазный слив и взамен снова тихо наполняемся жалостью к одним лишь себе. Раньше вот быть снобом считалось даже чем-то романтичным. Этакое непринятие всей тухлости вокруг. А теперь тухлость сместилась, но взгляд твой снобистский всё ещё высверливает дыру там, где было она. И взгляд этот вжился в опустевшую дыру. В неё, да и во всё остальное.
И что мы на это скажем? Всему виной Берлин, который людей как будто не очень-то и любит. В котором сложно раствориться. Это он хочется раствориться в каждом. А в свою очередь мы — даже там, где мы нерастворимы, — мы туда хотим впротезироваться. Так и я-псевдобог притягиваю к себе внимание. Отвлекаю на себя, как бы объясняя, до чего у меня всё это в горле. Подкармливаю свой личный снобизм, не пополняя ничьи ряды. Но кажется, это сейчас совершенно не модно.
В Берлине люди, тем не менее, не скупятся на улыбку. Но происходит это чаще в замкнутых или тесных пространствах. Чем у́же пространство, тем больше шансов, что тебе улыбнутся: на лестничных пролетах, в лифтах, у общественных туалетов. Особенно у общественных туалетов это немного удивляет. Вот ты стоишь в очереди в кабинку и ждёшь. Спустя минуту выходит ухоженная дама средних лет или неуклюжий, худощавый студент. И они как бы передают тебе эстафету. Мол, прошу, вручаю в целости и сохранности. И искренне, от души улыбаются. В такие моменты люди ближе друг к другу не только физически, но и по духу, как будто они — часть чего-то большего. Есть чувство единения, причастности ко всеобщей цели. А стоит выбраться на большую площадь, как все сразу меняется: твой внутренний мир выдувается из пор наружу, обволакивает тебя в мутный пузырь, и ты больше никого не замечаешь. Волевыми, отмеренными толчками рук и ног ты продвигаешь свой пузырь вперёд. У тебя есть значимая цель, но она больше не всеобщая. Мы все немного больны. Страдающие по себе. Все наши слова — о своей личной боли. Все наши поступки — о своём личном спасении.
Да и Берлин, вообще, не совсем город. Это, скорее, ребенок, который смотрит наивно и любопытно, почёсывая при этом зад и щёлкая подтяжками. А может и за хвост подвесить и живот распороть. Тебе. Как у дворового кота. Иди потом, зализывай, пока город снова втирается в доверие. К Берлину часто проникаешься то чувством нежности, то ненависти — с завидной очерёдностью. И притом случается это порой от одного и того же места, в похожие погоды. В похожие дни. Как будто место совсем не причём, а это всё ты — такой непостоянный, с перебоями. Ты, у которого много лиц. У которого есть темнота и шесть пальцев, если смотреть очень близко. Это всё ты.
авторская страница Анаит Сагоян