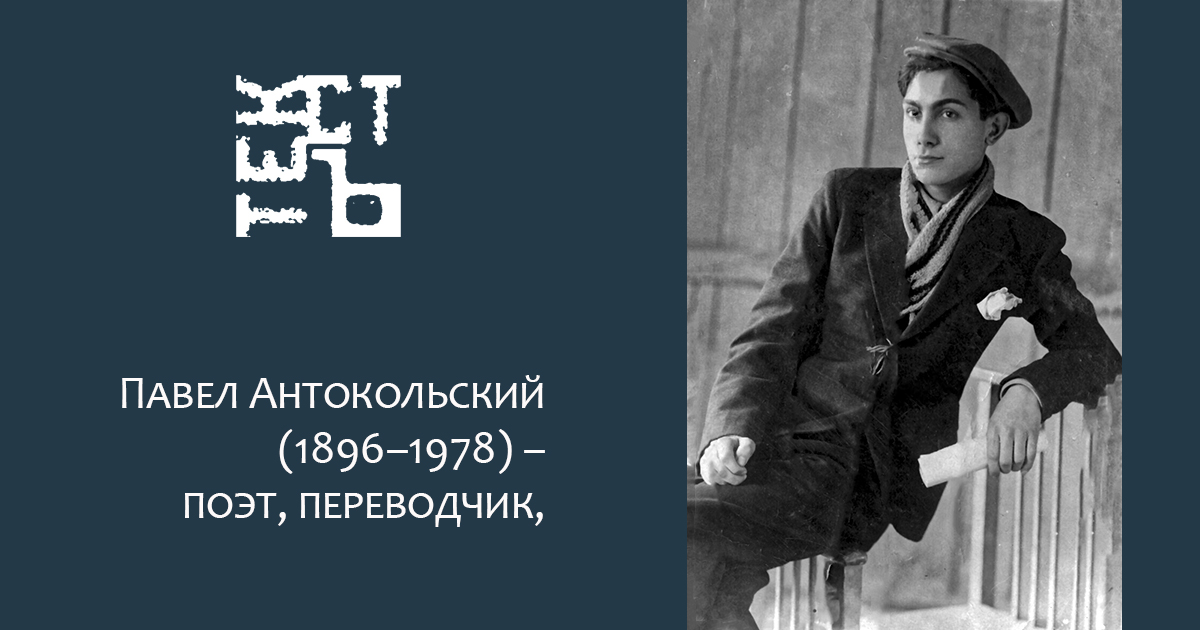ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Давай представим: девочка, гамак,
и ты стоишь, испытывая жалость
к волшебному улову, – двор, сужаясь,
вмещается в мальчишечий кулак.
Едва качнёшь – мелькают этажи,
так товарняк летит из преисподней.
И в паутине бабочка дрожит,
и пёс лежит у ног твоих, охотник.
Пока играем в детскую игру –
найди щегла среди ворон и соек,
найди свой дом меж рёбер новостроек,
под языком нащупай «не умру»,
пока волчица стережёт волчат,
точней, щенков дворняга, – на носочки
приподнимись, услышишь, как стучат
под кожей золотые молоточки.
Плывёт кораблик в проруби двора
на улице Монтекки-Капулетти,
где сумерки – такое время смерти,
когда правдивей кажется игра,
где звучен жест, где звук жесток – хлопок,
железный скрип, табачный выдох робкий –
так выпуклы, как девичий сосок,
вопросом обозначившийся в хлопке.
Кто тычется, ты спросишь, что за зверь
шевелится от счастья ли, испуга,
как будто ищет выход? Эту дверь
искать – что кошку или пятый угол
средь сумерек, внутри или вовне.
Но в свернутом на подвесной ладони
нескладном, угловатом существе
найди меня, слови меня, запомни.
* * *
Оказалось, что всё это зря –
воспалённое горло трамвая,
где течёт, под шумок иссякая,
«золотистого мёда струя»,
то бишь чья-то певучая речь
оживляет вагон, остановку
заполняет бесстыдно и ловко,
ибо – кровь, и не может не течь.
Всё впустую – стекло и гранит,
черепице перечащий тополь,
этот, может быть, Константинополь
или, может быть, этот Мадрид.
Зряшен бедный, растерянный люд
на ходу, и печаль его зряшна,
распоясанный быт рукопашный,
новостроек бетонный редут.
Но всего бесполезней – весны
разлетайки, бретельки, оборки, –
у такой изощрённой воровки
всяким хламом чуланы полны.
И совсем ни к чему, невпопад,
мимо цели, читай – виновато,
«я люблю тебя» выпорхнет в Прато,
в мельтешащий дождём Ленинград.
Отвернешься, качнувшись слегка,
силясь вспомнить, в Перми или в Вене,
не моя ли на заднем сиденье
разжималась призывно рука?
Не твоё ли под левым плечом,
уколов, обозначилось место?
Даже сердце теперь неуместно
под плащом, да и плащ ни при чём.
Разве выразишь – и не берусь! –
как с духами врезается хлорка
то ли в каменный запах Нью-Йорка,
то ли в Киева вкрадчивый вкус?
Но когда горожане вразброд
осаждают трамвайное тело,
неуместная парочка слева
преграждает им выход и вход.
УРОК
Есть осень для прилежных учениц,
для двоечников – золото каникул,
сиди считай неперелетных птиц
или читай про царствие калигул.
Смотри, как хлопок мнётся в небесах,
как галстуки порхают над аллеей,
и облака – что банты в волосах
у Танечки, сидящей чуть левее.
Есть человек, седая голова,
что прячется под выступами крыши,
до пункта Б дошёл из пункта А –
но что он видел на пути, что слышал?
По седине ладонью проведя,
он замирает, прислонившись к стенке,
как будто с окончанием дождя
обещана большая переменка.
Есть желтый клён на костяной ноге,
в костлявой кисти смят обрывок бирки.
Есть женщина без сумки, налегке,
с живыми соловьями на косынке.
Под козырьком сидит Чеширский кот,
молочный свет подрагивает в блюдце,
кот подмигнёт – покажется, вот-вот
зет с игреком в дожде пересекутся.
Сиди учись, корпи, ищи ответ,
не думай, что за дальними холмами
шатровый цирк раскрыт, как лазарет,
и машет разноцветными бинтами.
В осеннем царстве мела и чернил,
на Марь Петровны уповая милость,
держи в уме, чтоб дождь не проходил,
чтоб женщина, вздохнув, остановилась.
Он постоит, опять раскроет зонт,
она пройдёт легко и без оглядки,
и птицы полетят за горизонт
по ноябрю… Но у тебя в остатке –
жизнь – с ледяной иголочкой в боку,
смерть – этой жизни проще и моложе.
И Марь Петровна мстит ученику
за то, чему учить его не может.
* * *
«…хотя бы это только переезд…»
И. Бродский
Теперь не уезжают навсегда,
отъезд – как перемена антуража,
снега сошли и талая вода
у бастионов – вражеских и наших.
Теперь врагов я узнаю в лицо –
и почтальона, и соседа Тэда,
летящего то бодрою трусцой,
то в кожаном седле велосипеда.
Уже не важно, в прошлом ли, теперь,
на дальнем расстоянии ли, рядом,
кто из людей (зачеркнуто) теней
остался в освещеньи слеповатом
стоять за опальцованным стеклом
Борисполя – в конце такого года,
когда зима ломилась напролом,
мешаясь с серебром Аэрофлота.
Какая драма? Смена, переезд.
Не бойся, не проси, но вспомнить можно,
как светится багажный перевес,
чуть взбадривая хмурую таможню,
как в запад превращается восток –
должно быть, солнце в бок сместилось к ночи,
и счастлив ты, и так же одинок,
как Тэд-сосед – никак не одиноче.
Но вдруг не к месту вспомнишь, как с лотка
брала у бабки яблоки и сливу,
и что-то там слетало с языка
на суржике ее невыносимом, –
сшивательница времени, рапсод
с веревочным браслетом на запястье,
она язык переходила вброд,
кладя в кулёк копеечное счастье.
Тот странный звук отскакивал от стен,
брал в оборот – от головы до пяток,
и мнилось, полон полиэтилен
дарованных и неоплатных яблок.
А нынче – гладко тянется, что нить
вискозная, врезаясь под колено.
И можно плыть, а можно и не плыть –
не суетясь, легко, попеременно.
Из неопубликованных
ЭЛЕГИЯ
А что у нас? Из нашего окошка
чуть виден мятый краешек бульвара,
тоска и ностальгия здесь – табу.
О раму ветка звякает, как ложка
о край стакана, небо Чегевары –
звезда во лбу.
О, загород! Ты – старое на новом:
то здесь мигнёт, то там кольнёт невольно,
то вспыхнет и погаснет, чтобы впредь
не зажигаться. Мышь за крысоловом,
как мы за словом – сдаться добровольно
и умереть.
А раньше что? Там тоже было пусто,
когда куда ни глянешь – двор да сад,
бетонный параллелепипед дома,
где Левченко, мудра и златоуста,
нас просвещает: о, маркиз де Сад!
О, смрад Содома!
У девочек запутанные косы,
у мальчиков разбитые коленки,
у женщин надувные рукава,
над бархатцами век мелькают осы,
отскакивают мячики от стенки,
то бишь слова.
Тебе, шуту (здесь маски ни при чём,
ты «Город без любви» смотрела в ТЮЗе,
чьи суд да дело живы до сих пор),
почти что нежно Колька за плечом:
«жидовочка», – и по гипотенузе
срезаешь двор.
Ещё светло, а кажется, ни зги,
в тылу пыхтит отзывчивая Вера
с четвёртого, «не парься, – скажет, – пьян», –
о ней соседки шепчутся «гетера»,
о ней потом ещё напишет Ги
де Мопассан.
Но если что-то выбрать, наконец,
из памяток, сокрытых за семью
замками, то – валы и перелесок,
безветренность, безденежье, семью,
где много (мало!) мамы, а отец –
пустой довесок.
Не о себе я говорю сейчас,
мне к десяти годам и на отца
вдруг подфартит (фортуна – ванька-встанька),
но в доме на Волынской (вход с торца)
ждала с пяти и к сорока спилась
Смирнова Танька.
Тот светел, кто не плачет ни о ком,
ни жив, ни мертв, уже не там, не здесь
ещё, – затих и весь идёт ко дну,
он выбирает лёд и в горле ком,
и если скажут, будто выбор есть,
то – тишину.
Так, догорая в городе греха,
в горящем манускрипте Голливуда,
я в рукописях комиксов жива, –
отсюда половел и шелуха,
мне разница меж чистотой и блудом
видна едва.
Кто машет нам, дурехам и повесам,
с которых толку-то, ни дать, ни взять,
плоды от древа, тот же звук глухой, –
так кто там сокрушается над лесом,
что я глупа, что ты такой-сякой,
что вот опять
мы новое высматриваем в старом,
из всех живых мы выбираем тени,
хоть за подол – ну что ж ты не берёшь? –
растопленное солнце над бульваром
и Левченко, подпорченную чтением,
всю эту ложь.
* * *
Покуда вечер в тисах созревал,
ловя в силки то птиц, то насекомых,
на италийской пьяцце карнавал
нас превращал в пустых и невесомых.
Гипс полумаски на моем лице
так незаметно приживлялся к коже,
что в зеркале под лестницей в торце
я выглядела мягче и моложе.
Мой черно-белый, преданный Пьеро,
в Венеции, куда ни глянь, – витрина,
где правит голубиное перо
«Марина» на земное – «Коломбина».
Как чужедальне ты сейчас похож
на мальчика, которого однажды –
к себе, в себя… Кто в эти двери вхож,
умрёт, заснежен, от тоски и жажды.
Пока идём, ещё рука в руке,
под бубенцы, переплетаясь сложно,
какой романтик шепчет вдалеке
о том, что любит то, что невозможно?
За двух убитых что теперь дают?
Пуд соли, снег, олив сухой остаток.
Так умирай, мой балаганный шут,
замедленно заваливаясь на бок!
Врасплох, прилюдно, посреди толпы,
в которой нам и холодно, и жарко,
ощеренные погибают львы
на равнодушной площади Сан-Марко.
Исчерпана больная страсть к борьбе
и тяга к расставанию, к разрыву, –
вот ты затих, и я клонюсь к тебе,
удерживая маску через силу.
Слова слетают в снег и гололёд,
как чайки с онемевшими хвостами.
И ни одно из них не оживёт,
когда мы поменяемся местами.