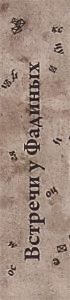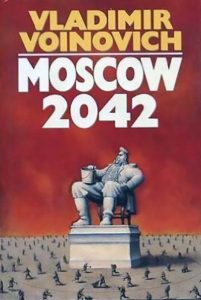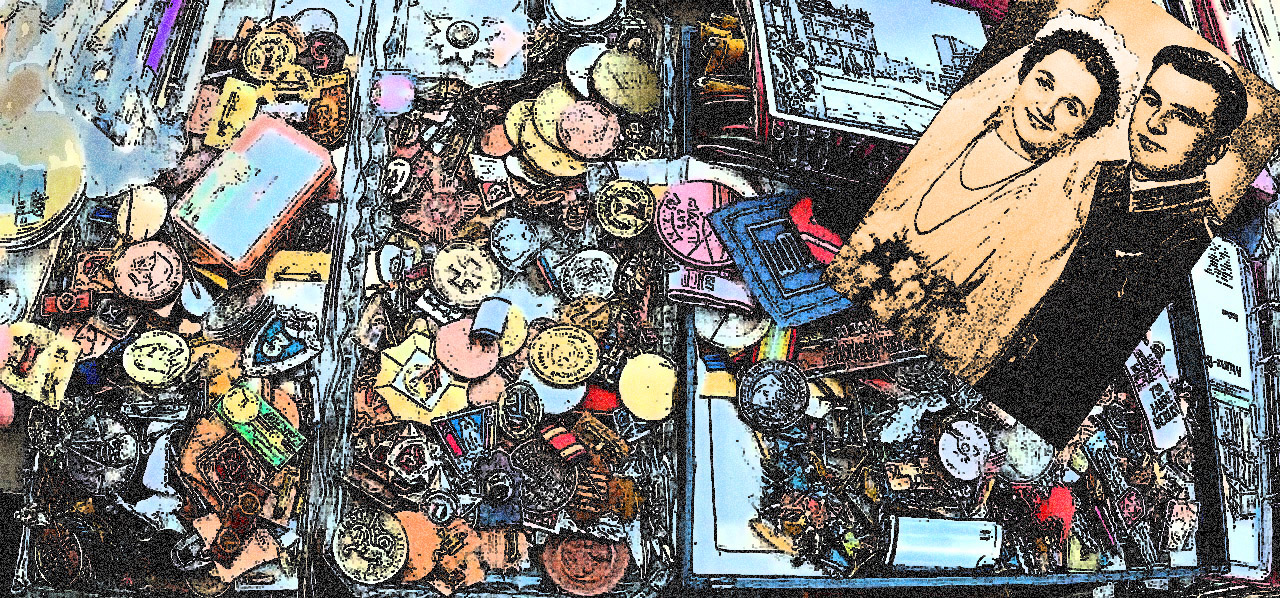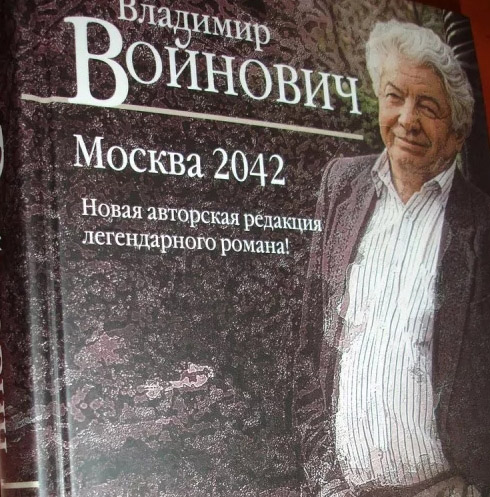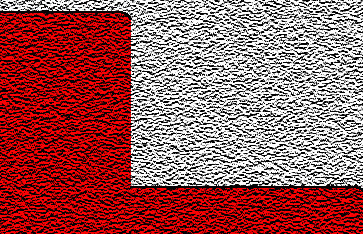Три писателя
Лимонов. «Книга мёртвых».
Ваш любимый писатель? – Эдуард Лимонов. Такое высказывание воспринимается, как правило, с недоумением – теми, кто Лимонова не читал. Или читал только «Эдичку». Можно понять.
Прочитав когда-то «Это я – Эдичка» ещё в самиздате, я сделал вывод, что книга, конечно, хорошая, но какая-то неаппетитная. И забыл о Лимонове надолго. Пока лет через десять одна знакомая чуть не насильно заставила прочесть «Молодого негодяя». С тех пор вся автобиографическая трилогия «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» – оказалась в компании моих любимых книг. Вместе с «Палачoм», «Возращением иностранца», рассказами. А вышедшая в 2000 г. «Книга мёртвых» стала самым сильным литературным переживанием за многие годы.
У Лимонова странно незаслуженная литературная репутация. Она целиком определяется его крайне нелепой политической деятельностью. Но мы знаем великих писателей и с ещё более отвратительными взглядами. Например, Маяковский. Причём Маяковский со своих взглядов имел доход, а Лимонов тратит на них честно заработанные гонорары.
Критик Михаил Золотоносов написал как-то, что политическая деятельность Лимонова есть факт его литературной жизни. При этом странным образом проза Лимонова не подчинена его политической деятельности и практически с ней не пересекается. Она о людях, о вечном. Александр Кабаков в статье «Подросток Савенко и другие подростки» довольно точно определил истоки лимоновской революционности – инфантилизм. Подростковая страсть к оружию, к войне, к неаргументированному бунту против любой власти. Для взрослого человека это странно. Но качества, обязательные для большого художника, в принципе странны для нормального взрослого человека. Искренность, независимость от чужих мнений, способность ощущать мир, пространство, людей, форму, цвет непосредственно, минуя наработанные стереотипы, – эти свойства тоже очень часто сводятся к тому же неизжитому, точнее, чудом сохранённому инфантилизму. Лимонов законченно инфантилен. Для литературы это – благо. Для автора, вынужденного жить среди взрослых, благонамеренных и добропорядочных людей, – неприятности. Которые, впрочем, оборачиваются теми же необходимыми писателю страстями.
* * *
Несмотря на то, что Лимонов считает Бродского архаичным, сам он тоже решительно не современен. Точнее, не вписывается в постмодернистскую эпоху игры с текстами, тотальной иронии и двусмысленных стилистических упражнений. В этом смысле проза Лимонова – классическая. Сам он на эту тему высказался так: «Я питаю пристрастие к прямым трагическим текстам, и условные мениппеи, саркастические аллегории, всякие Зощенки и Котлованы, Собачьи сердца или анекдоты о Чапаеве, расширенные до размеров романа, короче, условные книги – оставляют меня равнодушным».
Над этим кажущимся высокомерием можно было бы посмеяться, если бы тексты Лимонова не были такого высокого уровня. Он действительно другой.
Постепенно, с годами, пришёл к крамольной мысли, что лимоновское умение видеть и воплощать трагедии напрямую, вне литературных приёмов и условностей, означает более высокий уровень литературы, чем, например, непрерывное ироническое обыгрывание житейских ситуаций у любимого мной Довлатова.
* * *
«Книга мёртвых» – поразительная книга. Это сборник блестящих эссе об умерших знакомых. Конечно, не только об умерших. Это эссе о жизни, в которую были вплетены умершие люди. Лимонов написал в одной из глав: «Кто-то из моих критиков заметил однажды, что Лимонов не умеет придумывать своих героев. Это верное наблюдение. Придумывать я не умею и не хочу, я умею их увидеть. И ещё я умею их встретить». Надо добавить – и почувствовать.
Лимонов – объективный мемуарист. В том смысле, что в его рассказе о людях очень ясно различаются разные уровни взаимоотношений с героями. С одной стороны, личные отношения – дружба, вражда, любовь, зависть, обиды и примирения. С другой стороны – независящая от личных отношений способность автора ощущать действительное художественное значение творчества своих героев, по большей части людей искусства.
Этот врождённый дар, помноженный на абсолютную, редкостную в наше время независимость оценок придаёт книге особый искусствоведческий смысл. Можно не соглашаться, например, с тем, что Бродский времён суда над ним был вполне средним поэтом и только потом резко вырос под воздействием происшедших с ним событий. Можно иронизировать над тем, что Лимонов именно Бродского воспринимает литературно равным себе (хотя, на мой взгляд, есть все основания к тому), но уже никогда не отмахнуться от тонкого художественного и психологического анализа личности и творчества Бродского и других не менее знаменитых героев книги. Анализа, вряд ли доступного большинству других – политкорректных – воспоминателей. Вот, например, о Бродском: «У него был меланхолический темперамент, его вселенной я бы не позавидовал и жить бы в ней не хотел, она мрачная. У него был настоящий талант, хотя и архаичный, библиотечно-академический. Он – единственный из живших в моё время литераторов, с кем хотел бы поговорить долго и откровенно «за жизнь», о душе, и всякие там космосы и планеты. Но он всегда уклонялся, боялся».
Третий уровень отношений автора с его героями – самый на самом деле важный – определяется даром Лимонова остро чувствовать человеческое содержание людей, психологию, страсти. То есть чувствовать реальное значение личности, вовсе не обязательно совпадающее со значением творчества, даже если таковое и имело место. Вкупе с простым, точным, упругим языком это свойство превращает мемуары и критику в классическую литературу. Оно делает шедеврами не только главы, в которых речь идёт о знаменитостях – Бродском, Лиле Брик, Татьяне Яковлевой, Дали, Энди Уорхолле, но такие, где рассказывается о малоизвестном художнике Евгении Кропивницком или совсем неизвестных друзьях юности Лимонова, тихом эмигранте Лёне Колмогоре, парижской пенсионерке, сдававшей автору квартиру, его собственном охраннике…
У Лимонова свои отношения с умершими: «Со временем влияние мёртвых постепенно ослабевает. Нет, очевидно, мёртвого, кто бы мог держать нас на привязи постоянно, интересовать собой. К этому нужно добавить ещё тот факт, что величина мёртвого зависит от величины того, кто его вспоминает». И ещё: «О мёртвых надо говорить плохое, иначе, не осудив их, мы не разберёмся с живыми. Мёртвых вообще всегда больше, чем живых. Быть мёртвым – куда более естественное состояние. Поэтому – какие тут церемонии могут быть, мёртвых жалеть не надо. Какие были, такие и были. Они имели время, все, какое возможно. Если не доделали чего-то… ну, разведём руками».
В этих словах нет ожесточения, нет цели кого-то разоблачить. Есть естественное желание понять и почувствовать, пропустить сквозь себя насыщенное человеческими страстями время. Кстати, эта способность ощущать время невероятно остро проявилась в первой части биографической трилогии «У нас была великая эпоха» – о пятидесятых годах. На мой взгляд, это лучшая русская книга о том времени. Да и сам Лимонов считает её своим шедевром.
Вопреки нелепой аннотации на обложке «Книги мёртвых», рассчитанной на привлечение внимания («По-настоящему злобная книга»), злобы в ней нет вообще. Есть независимость, которая, однако, сама по себе способна вызвать злобу у окружающих. Искренний интерес к людям в принципе, наверное, не может быть злобным. Нельзя размышлять о жизни без теплоты. Даже о тех людях, которые ему не сильно симпатичны, он пишет глубоко, с интересом и всегда неожиданно. И всегда выходя за рамки собственно мемуаров. О поэте Игоре Холине:
«В России Холин неуместен. Его некуда девать. (Бродского, кстати, тоже не было бы куда девать, но у него случилась искусственная судьба) … В России вообще всех некуда девать. Здесь все лишние».
* * *
Согласно общественному мнению, Лимонов – порнографический писатель. Или как минимум непристойный. Это нелепый и незаслуженный миф. Он порождён гомосексуальными ситуациями в первом романе «Это я – Эдичка». В действительности Лимонов аэротичен. У него есть откровенные ситуации, например, в «Палаче»), но нет вульгарных. Даже самые тяжёлые сцены никогда не написаны с целью возбудить или эпатировать читателя. Они – часть сложной и тяжёлой жизни. И полностью подчинены сюжетной логике.
Можно ещё предположить, что Лимонову не могут простить простой честности. Правда, честность Лимонова действительно не всем по плечу. Предметы и понятия, для которых в русском языке нет пристойных слов, Лимонов называет в своей прозе напрямую, не ища эвфемизмов. Он мало пользуется такими словами, но, когда надо, пользуется только ими. Пользуется так, как он сам и его герои (тот же Бродский, которого он цитирует в «Книге мёртвых») пользуются ими в жизни. Это производит более сильное впечатление, чем любая стилистическая игра с матом, рассчитанная на эпатаж, или, как минимум, удивление читателя.
Среди героев «Книги мёртвых» – все три бывшие жены Лимонова. Умершая в сумасшедшем доме Анна Рубинштейн, вторая жена Елена Щапова и умершая в 2003 г., после выхода книги, Наталья Медведева. Писать о бывших жёнах так, как будто он их ещё и сегодня любит, – редкое мужское свойство. Не винить их в разрывах, воспринимать трагедии как данность, как неотъемлемую часть трагической по своей сути жизни – ещё более редкое.
Порнографический писатель не смог бы написать: «Разрыв, даже с чудовищем, всегда как репетиция смерти. Потому что все, что у тебя собрано: коллекция объятий, вечеров, ночей, случаев, молчаний – всё это подвергается опасности вдруг. Всё это безжалостно убивается, по улыбкам ходят ногами, и часть жизни отмирает. И ты остаёшься с меньшим количеством жизни».
Опубликовано: «Русская мысль”, Париж, N 4452, 17 апреля 2003 г.
Владимир Войнович. Между мифом и портретом.
В 1988 году один знакомый ехал из Берлина в Париж. Попросил его зайти в лавку издательства ИМКА-Пресс и купить «Москву 2042» Владимира Войновича. Тогда в Берлине русских книг не было вообще. В лавке ему ответили:
«Мы эту антисолженицынскую гадость не продаём».
Книжку тогда я, конечно, достал другими путями. Она оказалась исключительно смешной, умной и, как потом, к сожалению, выяснилось – пророческой. Зрелище кремлёвских чиновников, стоящих на богослужении в Успенском соборе до сих пор неизменно вызывает в памяти картину «звездения» из книжки Войновича. Там коммунистический режим сросся с религией, священники присутствовали на всех торжественных актах и граждане не крестились, а «звездились» – изображали на себе не крест, а пятиконечную звезду. Главный герой – Сим Симыч Карнавалов – представлял собой тонкую и тоже пророческую пародию на Солженицына. Когда Солженицын торжественно въехал на поезде в Россию, медленно и с понтом пересёк её, а потом произносил странно пустые и вообще странные, но исключительно многозначительные речи, всё время всплывала мысль – предупреждали же его: не въезжай в Россию на белом коне! А он въехал…
Книга, изданная в 1986 г., вызвала яростный и нелепый протест солженицынских фанатов («солжефренов», по выражению Войновича). Что говорит только в её пользу. В 2002 году, к своему 70-летию, Войнович написал ещё одну книгу – «Портрет на фоне мифа». Теперь – просто о Солженицыне. Всерьёз и без насмешек. На мой взгляд, это очень важное событие в русской культуре вообще. В странную нынешнюю «постмодернистскую» эпоху подмены понятий, эпоху, когда рыночный успех становится синонимом художественного, Войнович напомнил о том, что всё ещё существует «гамбургский счёт». Что никакие заслуги в прошлом не могут улучшить или предопределить качество того, что человек делает сейчас. Что глупость, сказанная великим человеком, не перестаёт быть глупостью. Что мифотворчество и создание любых культов, даже очень хороших людей, тоже есть глупость. А если в душевных и нравственных качествах возвеличиваемых людей есть сомнения, то это – злонамеренная глупость. И создателей культов она серьёзно дискредитирует.
О Солженицыне Войнович говорит объективно. Никак не умаляет его художественных и общественных заслуг. Об «Одном дне Ивана Денисовича» пишет по-прежнему с восхищением. О романах «В круге первом» и «Раковый корпус» – тоже. О «Гулаге» с меньшим восторгом. Отмечает, что главное в книге – «сами судьбы, а не сила изображения». Тут я не вполне согласен, мне как раз художественная сторона «Архипелага ГУЛАГ» кажется превосходной, но это как раз дело вкуса. Интересно замечание Войновича, что если «Архипелаг ГУЛАГ» и перевернул сознание читателей, то далеко не всех. А только тех, кто раньше не знал ничего о террористической сущности советского режима, не читал книг Варлама Шаламова и Евгении Гинзбург. И вообще не замечал того, что происходило вокруг в течение десятилетий.
Войнович отдаёт долг абсолютному мужеству Солженицына, много лет рисковавшего жизнью и готового ею пожертвовать. Но он пишет также о художественной и нравственной эволюции Солженицына. Например, о низком уровне написанной уже в эмиграции эпопеи «Красное колесо». О том, что знаменитые «узлы» плохи, нечитабельны, скучны. Что налицо провалы вкуса и отсутствие чувства юмора, которое не позволяет эти провалы заметить. О самовлюбленности Солженицына и об отношении к самому себе как к непогрешимому объекту культа. Как раз эти черты и были высмеяны в романе «Москва 2042».
Войнович пишет и о более серьёзных вещах, чем просто литературные неудачи. По крайней мере, серьёзных для человека, игравшего много лет роль этического эталона. О нетерпимости, равнодушии к помогавшим ему людям, высокомерии и хамстве. О сознательной и циничной заботе о собственном имидже. О странных для апостола правозащитного движения недемократических взглядах. Об отчётливо проступающих в его текстах признаках ксенофобии. Кстати, единственный аргумент, который кажется мне не вполне убедительным, это перечисление Солженицыным начальников Беломоро-Балтийского канала, которое Войнович интерпретирует как сознательную выборку только еврейских фамилий – Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт, Жук. Дело в том, что в знаменитом Указе о награждении строителей Беломорканала 1932 г. эти фамилии перечислены именно таким образом. Плюс Ягода и 3-4 имени исправившихся уголовников. Думаю, что просто список этот был на слуху. В остальном – всё очень убедительно.
Владимир Войнович считает, что «отсутствие сомнений в самом себе и самокритики, гордыня и презрение к чужому мнению заглушили в нём инстинкт самосохранения (творческого), лишили его возможности трезво оценивать свою работу и почти все, что он написал в эмиграции, его публичные выступления и отдельные высказывания стали для него убийственной антирекламой». Трудно не согласиться.
В книге «Портрет на фоне мифа» есть ещё один тематический пласт, может быть и более важный, чем оценка личности Солженицына. Это тема тяги к «идолопоклонничеству». Стремление к безоговорочному воспеванию классиков и героев оказалось характерной не только для советского сообщества, но и для антисоветского – для нарождавшегося в 50-60-е гг. диссидентского движения. Среди тех, кто воспринял пародию на Солженицына в романе «Москва 2042» как оскорбление великого человека, были люди с безупречной репутацией – Александр Гинзбург, Виктор Некрасов, Анна Берзер, Лидия Чуковская. Войнович с огорчением пишет: «Когда меня ругали за «Чонкина» секретари Союза писателей, Герои Социалистического Труда или советские генералы, их суждения были невежественны и смехотворны, но меня это… не обижало и не удивляло. Я понимал, что это говорят глупцы и невежды… Но, когда близкие мне люди возмутились «Москвой 2042» и попытались объяснить причину своего негодования, их аргументация оказалась тоже не умнее этих, мной перечисленных. Только те меня винили в том, что поднял руку на великий народ, а эти, что – на великого человека, на нашу гордость и славу».
В книге неожиданно много места занимает личная и очень резкая переписка Владимира Войновича и его жены Ирины с их близкой приятельницей по поводу «Москвы 2042». При иных обстоятельствах такой довесок мог бы только ухудшить книгу. Если бы не имя приятельницы – Лидия Корнеевна Чуковская. Взгляды знаменитой дочери Корнея Чуковского, даже неверные или неубедительные, несомненно важны для истории.
Владимир Войнович сделал себе к 70-летию очень хороший подарок. Остаётся его только поздравить.
Опубликовано: «Европа. Экспресс», №52, 2002, Берлин.
«Дрейф» Марио Корти
«…Авантюристы – очаровательные люди. Их аура, круг интересов и поле деятельности шире, чем у обычных людей. В детстве к ним относятся как к ублюдкам…»
Если бы я своими ушами не слышал выступление руководителя русской службы Радио «Свобода» Марио Корти, то не поверил бы, что эта книга написана итальянцем, никогда долго не жившим в СССР. Написана на русском, а не переведена…
Комплименты типа «ах, как вы хорошо говорите по-русски (по-немецки, и пр.)» всегда двусмысленны. Дескать, иностранец, а выражается понятно. Маленькая книжка Марио Корти «Дрейф» поразительна тем, что это настоящая русская литература. «…иногда посторонний видит то, что посвящённый, связанный правилами игры, обходит вниманием…»
Тем не менее книгу написал чужак. Это сказывается в том, что она не вполне вписывается в литературный процесс. Сегодня модна самодостаточная игра с текстом и словами. Корти же – ощущает вкус языка так, как это делали лет сто назад, когда язык был средством выразительности, а не целью. Это язык, подчинённый ощущениям, а не наоборот. Таким языком пишется классическая литература.
«Что ещё побудило меня сесть за компьютер? Попросили написать автобиографию. Я ограничился несколькими эпизодами из детства. Вообще я не люблю автобиографический жанр. Кроме Казановы и Челлини – скучно. Как же поведать о себе так, чтоб было интересно? Очень просто: говорить в основном о другом».
Не сразу понимаешь, что этот сборник не связанных между собой новелл, от рывков, случайных справок на самом деле вполне связная автобиография. Из неё просто убрано лишнее: даты, точное время, место, имена, обстоятельства. Убрано то, что нужно для написания биографии, но не нужно для понимания человека.
«Я искал форму, позволяющую нащупывать далёкие связи во времени и в пространстве, перепрыгивать из ситуации в ситуацию, показывать мир без границ – и временных, и географических, и культурных, – дрейфовать без руля и ветрил, что не разрешено профессиональным историкам…»
Книга насыщена людьми, реальными и вымышленными. И такими же событиями. Таинственный Проповедник, итальянский композитор Сарти при дворе Екатерины II, легендарный вождь чеченских повстанцев XVIII века Ушурма, он же шейх Мансур, который то ли был, то ли не был беглым итальянским бунтовщиком. Наум Коржавин и иезуитский миссионер XVI века, известный в Китае под именем Ли Мадоу… Сам автор выступает в двух ипостасях – Начинающего и Аграфандра. Начинающий учится в духовном коллегиуме, влюбляется в музыку, девушек, русскую литературу…
«Среди её героев ему были ближе старцы и крестьяне – как ему казалось, истинные представители русского народа. Они говорили пословицами или евангельскими изречениями…»
Аграфандр живёт в Москве, убегает от кагэбэшников, спорит.
«Ренессанс в России не состоялся, так как не было исторической преемственной связи с греческой и римской античностью. Ренессанс возможен только в пределах бывшей римской империи, причём западной, говорил Аграфандр. Так оно и было…»
Время, персонажи, страны, цивилизации перетекают друг в друга, образуя необыкновенно реальную среду, лишённую воздушной перспективы. Расстояний нет ни между людьми, ни между временами. Ощущения и страсти давно умерших людей переплетаются со страстями наших современников.
«…в отличие от Тосканы, гениев в Ломбардии особо не завелось. Их здесь даже не очень-то и ценят. С другой стороны, те скромные персонажи, которые прославили себя и Треццо, выглядели бы достойно и в любой другой стране…»
Кажущийся хаос книги имеет чёткую структуру. Это вообще не хаос, а внутренний мир одного очень образованного и очень насмешливого человека. «Не ангажированного», как говорили совсем недавно. «Не тусовочного», как говорят сейчас.
«Он пал ниц перед огромным пустым троном. Вряд ли в такое раннее время Сын Неба толстяк Ванили, никем не видимый, наблюдал за ним. Он уже знал черты лица пришельца: ему показали портрет, исполненный придворным художником. Внимательно изучив картину, Сын Неба молвил с усмешкой: «Хуйхуй». В Срединном царстве этим словом было сказано все…»
В книге нет фантазий, нет сочинительства. Просто автор, привыкший размышлять над историей, не может не ощущать её непрерывности, единства человеческой природы, человеческих предрассудков, пороков и достоинств. Исторический персонаж, который занимает воображение, разрастается, становится близким, не менее понятным, чем современники. Даже если он понят неправильно. И не так важно, правильно ли он понят. Точнее, совсем неважно.
«Огромный вокзал в пустыне, повисший между небом и землёй. Место так и называлось – Узел. В пяти километрах отсюда – городок, в котором родился Диктатор. Распрощавшись, друзья сели в поезд и уехали. Слово «хуйхуй» не произносили, но оно было написано на их лицах…»
Память человека, имеющего воображение, с годами заполняется образами людей и событий, яркость которых зависит не от временной дистанции, а от того, насколько они ему самому интересны. «Дрейф» – автобиографическая книга человека, имеющего воображение. Или так: это – биография воображения.
«Мамлюками назывались португальцы и метисы из района Сан-Паулу в Бразилии, которые время от времени совершали налёты на индейцев гуарани. Пленных продавали в рабство. Ну, а там, где другое Междуречье знают все, гурани – диалект курдского языка, а белые рабы-мамлюки в Египте были из тюрков, грузин, черкесов и других кавказских народов…»
Авантюристы – очаровательные люди.
Опубликовано: Колокол, N 3,4 (8,9) 2000, Лондон