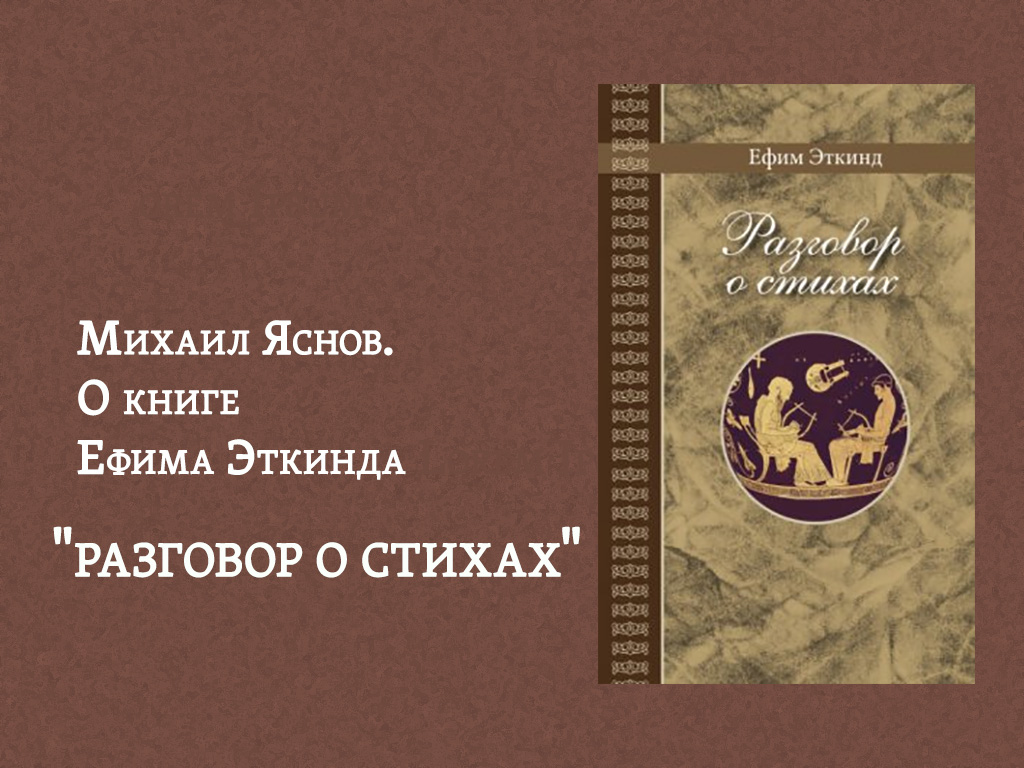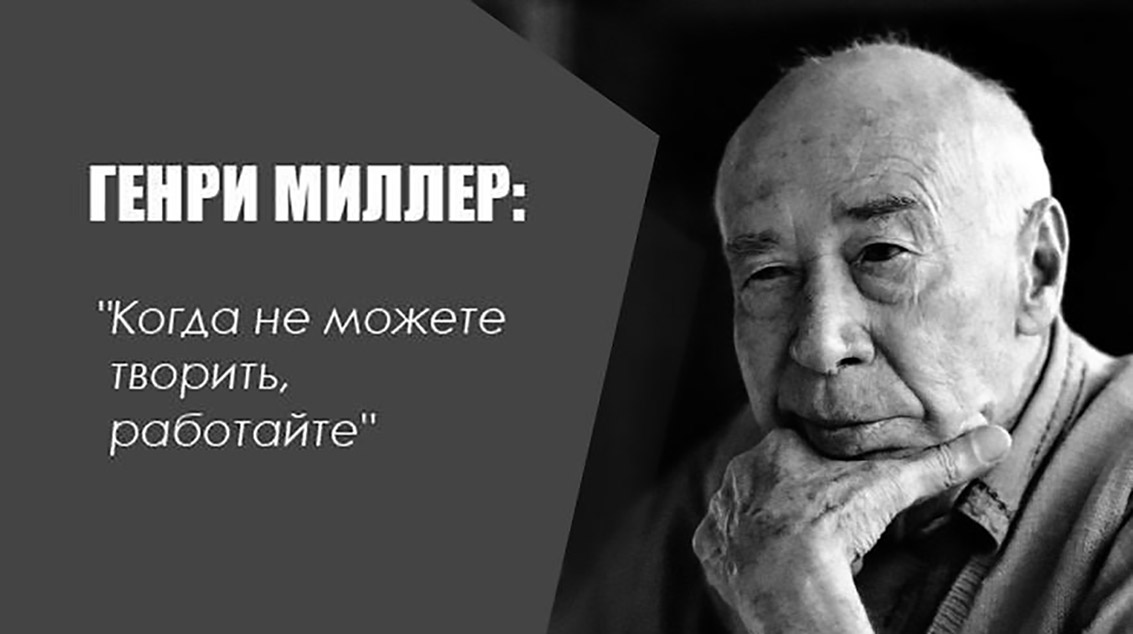«Маленький человек» в поисках Бога
(Петербургское культурное самосознание сегодня)
Санкт-Петербургу 300 лет, и клонированная двуглавая птица вновь взметнулась над его кровлями.
Трёхсотлетнего младенца таскают по вновь открытым храмам, и Казанский собор на Невском проспекте теперь не Музей атеизма, как в советские времена, а место манифестаций самых православных из православных личностей. Даром что по духу своему они как-то уж слишком близки былому Союзу русского народа. Его попечением в 1913 году, к 300-летию династии Романовых, неподалёку от Московского вокзала был построен последний крупный храм Петербурга — собор Божией Матери Феодоровской. Ныне, без крестов и куполов, обнесённый забором, он отдан под какой-то подозрительный склад. У православных душа к проповедям на вокзальных задворках не лежит.
Говоря словами философа Георгия Федотова, идейность задач при беспочвенности идей всегда была отличительной чертой жителей северной умышленной столицы, ее знаменитой интеллигенции, не важно, настроенной ли религиозно, или нигилистически. Кроме этой интеллигенции, кроме этих «маленьких людей» с их грандиозными противоречиями, с их нервной, творческой чувствительностью, ничего стоящего в этом городе не было и нет.
О блистательных фасадах помолчим, они слишком известны.
Нет, очень правильно было сказано: «великий город», но вот жребий вытянул — позорный.
«Петербургский период русской истории» был насильственно прерван в 1917 году. Однако питерскую интеллигенцию даже в советские времена не покидала надежда: «Петербургский период русской культуры» — явление более долговечное хотя бы потому, что любая культура переживает политический строй, при котором она завязалась.
Имперский фасад северной столицы, «блеск безлунный» ее белых ночей воспет Пушкиным в прологе к «Медному всаднику», и после него никогда и никто более высокой ноты в описании Петербурга взять, был не в состоянии. Потому что тем же Пушкиным, в том же «Медном всаднике» была явлена трагическая рефлексия на это великолепие, так или иначе переживаемая всеми великими художниками Петербурга. После Пушкина любая личность осознает себя на берегах Невы «маленьким человеком», утлой лодчонкой у державной пристани.
В советское время многие уплыли на этих лодчонках в Москву. В Москве делили мясо, в Ленинграде же — кости. В постсоветское время ситуацию можно охарактеризовать сходным образом: в Москве делят валюту, а в Питере — рубли. Впрочем, жить теперь можно и там, и там, как это делает, например, Андрей Битов, писатель, лучше других осветивший закоулки современной петербургской души:
«“Господи! Какие мы все маленькие!“ — воскликнул странный автор. “Это так! Это так! — радовался Алексей“» (повесть «Сад»).
Подобная радость, пожалуй, никому, кроме как питерскому герою, в русской литературе ведома не была.
Это поразительно: заботливо опекаемый гуманистическим разумом «маленький человек» вообще — а обитатель града Петра особенно — выработал в себе самосознание творческое, сам стал творцом.
Так что во фразе о «великом городе с областной судьбой» трезвость оценки привлекает нас больше, чем подразумеваемый в ней плач и стенание на реках гиперборейских. Региональность культуру питает, без неё она — фасад и фантом.
Если отвлечься от «столичного лоска», то обнаружится истина совсем не низкая: культура в основе своей провинциальна, укоренена в природе, в почве, в местном наречии. Провинциальна она в большей степени, чем провиденциальна, земли в ней больше, чем неба. Любая столица начиналась с хутора, с пещеры отшельника. Дом Петра Великого был в этом городе низкий и деревянный.
Недальняя память о временах, когда «лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел», неотторжима от исторического самосознания петербуржца. Также, как и тот факт, что этот заболоченный, затопляемый лес всегда был пограничным урочищем. В том числе и в века, когда это урочище оказалось центром империи.
Исходным материалом и содержанием петербургской культуры является интуиция о неполноте земного человеческого бытия. Жизнь петербургским художником всегда ставится под сомнение. Но по своеобразной причине — она испытывается мечтой, подозревается в сокрытии чудес:
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам.
Эти стихи Анны Ахматовой совершенно выражают дух петербургского творчества. Петербургский художник никогда не остерегается слишком земного, «слишком человеческого» —в них он ищет и находит отражение небесного и внечеловеческого. Его «отрицательное знание» переплавляется в «положительное» — о «мирах иных». Истинно петербургскому поэту, такому, например, как Георгий Иванов:
…полною грудью поётся,
Когда уже не о чём петь.
Это значит, что откровение нисходит в минуту, когда скорбные земные итоги подведены и все счёты — сведены. Мотив, мощно зазвучавший еще у Державина. Последняя, написанная им за три дня до смерти мелом на грифельной доске строфа пробудила первую отчётливо «петербургскую ноту» русской поэзии:
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
Именно этим стихотворением вдохновлён Георгий Иванов, полагавший себя «последним из петербургских поэтов». Ирония петербургской культуры в том, что все ее поэты — «последние»:
Мы — последние поэты,
Мы — последние лучи
Догорающей в ночи,
Умирающей планеты…
Самоощущение, ведущее к роковой черте, к отказу от жизни. Что и произошло с автором этих строк Виктором Поляковым, поэтом, тревожившим избранные петербургские души, в том числе душу Александра Блока.
В Петербурге чудо, иноприродное обыденной жизни, проявляет себя через «красоту утрат». Ибо, по формулировке Иннокентия Анненского:
…грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе…
В петербургской поэзии — а литературное влияние Петербурга на русскую словесность было и осталось поэтическим и метафизическим par excellence — «земное» притягивает к себе «небесное». И чем сильнее земная тяга, тем больше шансов уловить и запечатлеть в юдоли всяческих скорбей и печалей лучезарный отблеск:
До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена…
Для чуда, говорит автор этой строфы Дмитрий Бобышев в другом стихотворении, пригодится «любой завалящий предлог». И хотя в предлогах чудо как раз не нуждается (потому оно и чудо), художественная мысль тут ясна: не априорное знание о Боге делает стихослагателя творцом, а поиски следов Божественного промысла в ничтожнейшей из «промзон».
С этой точки зрения целостный «образ мира, в слове явленный» представляет собой совокупность периферийных явлений, и любая столица для петербуржца—кладезь метафор захолустья и праха. Небесный Иерусалим может просиять на последней из свалок. Тем паче — в мерзости собственного исторического запустения.
Сердце современного петербургского лирика вмерзает в средостение «страшного мира», подобно тому как столетием раньше это происходило с Александром Блоком:
Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.
«Ты — поэт местного царскосельского значения», — сказано было Анне Ахматовой любимым ею человеком. И это — лучшее, что о ней сказано.
Санкт-Петербург — «провинция» в точном, этимологическом значении этого слова: «воздаяние за победу» (от лат. «pro» и «vinco»). То есть земля, присоединённая к метрополии. Именно «провинцию» Пётр Великий утвердил центром империи. И он же вписал её в русский словник, назвав «провинцией» территории, по своему историческому и географическому положению с ущербным статусом несовместимые. Например, Великий Новгород.
То, что петербургская отделённость носит рубежный характер, — важно. Если провинция в России и сама по себе бывала заманчивым «укрывищем» для гонимых, то Петербург оставляет еще и шанс на освобождение от оков, шанс на переход границы. Равно как и шанс на возвращение.
Даже в изгнании петербуржец чувствует себя, по слову Нины Берберовой, — «в послании».
Ни поэзия не может в Петербурге обойтись без задач прозаических, ни проза — без поэтических. Все романы Достоевского написаны лириком, озабоченным в первую очередь, как всякий лирик, выражением ценностей внутреннего бытия личности. Вся лирика Ахматовой пронизана стремлением к психологической точности запечатлённых в стихах следов реальных человеческих взаимоотношений, без чего невозможно написать сколько-нибудь стоящего романа. И для каждого из них образцом был Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик.
«Весёлое имя Пушкина» неизменно выводило петербургскую культуру из накатывавших на неё кризисов. Пушкин же уберегал петербуржцев от их склонности ко всяческим «надрывам». В частности, при помощи Пушкина в XX веке были преодолены декадентские туманы, а в поэтическом слове семантическая нагрузка была сдвинута в сторону вещественной, предметной сути.
Яснее всего эту направленность можно уловить в стихах Александра Кушнера. Его лирика есть гармонизация интимного содержания русской литературы в целом, гармонизация ее застарелых противоречий. Уже само название его последнего сборника — «Кустарник» — говорит о многом, если не обо всем. Куст— основной, доминантный образ его поэзии, метафора жизни, ясно реализованная в стихотворении «Евангелие от куста жасминового…». Образ соразмерный человеческому росту, образ невзрачный и прекрасный одновременно!
Любовь к изображению «обыкновенных вещей» — неугасимый источник вдохновения. Потому что «и в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся, и в потёртом тёмном пиджаке». Ни в будущем, ни в прошлом нет для поэта тайны значительнее той, что скрыта в бытии простого современного человека с сердцем — среди обыденных забот. Душа этого человека — это душа современного петербургского искусства. Никаким «значительным лицам» хода в него нет.
Поэзию создаёт «маленький человек». И никто ему не ровня. Он сам кроит гениев по своему образу и подобию.
Петербургский автор политически неангажирован, политиков и их трибун чурается. Но суть той политической ситуации, внутри которой пребывает, он переживает сильнее многих. В этом отношении замечательна последняя книжка Сергея Стратановского «Рядом с Чечнёй» Вот над чем поэт размышляет, прогуливаясь в пустынном Царскосельском саду:
Обелиски, колонны…
Но тихо в аллеях просторных,
Ветер вешний
Сюда не приносит вестей
Из Чечни мятежной,
Из ее непокорных ущелий.
Кушнер принадлежит к числу поэтов, которых в советское время не жаловали, но, со скрипом, все же издавали. Стратановский — это уже чистый «андеграунд», поэт, до 1990-х годов не напечатавший, кажется, ни строчки.
Вместе с ним крупнейшими поэтами начала петербургского XXI века заявили себя его товарищи по «самиздату» 1970-х годов — Елена Шварц и Виктор Кривулин.
Литературный путь недавно скончавшегося Кривулина особенно показателен. Не признававший ни авторитета отцов, ни покровительства друзей, он был «мудр как змий и прост как голубь». При всей своей демократической ориентации ни в чьи адепты поэт себя не определил, как и в коммунистические времена, остался ускользающим от властей, призрачным петербургским объектом, что особенно заметно по его последней книжке «Стихи после стихов» Петербург описывается здесь как часть территории бывшей русско-советской империи, как пустырь со свалкой, по которой скитаются «заплутавшие в музах» поэты и поэтессы, «училки», похожие на гусениц, но наставляющие аудиторию «не ползать, а летать», солдатики, меняющие за пивным ларьком горсть патронов на дурь… Словом, скитается по всем этим закоулкам со всем смирившийся «гордый человек». Что отчасти и к лучшему — какие-то подавленные христианские добродетели в нем шевелятся, всяческий кровавый маскарад ему чужд.
Но что этому человеку не чуждо, так это изначально заданный роскошным петербургским фоном житейский карнавал. Его радужный шлейф тянется через всю прозу Сергея Довлатова, и он же — владыка психологически точной, тем самым и привлекательной, прозы Валерия Попова. В начале 1990-х годов этот писатель сознательно заразил себя рыночной лихорадкой, но теперь вернулся к реалистически внятному сюжетосложению. Несколько повестей, вошедших в его последнюю книжку «Очаровательное захолустье» являют пример того, что подспудная петербургская тема «маленького человека» не мешает ее адептам быть большими искусниками в словесной области. Насмешливая корректность самоидентификации автора в этой прозе есть выражение его потаённой, с советских времён отстаиваемой доктрины: частное сознание достойнее коллективного разума. В отличие от последнего, оно не знает ни героев, ни святых. В этом вся суть: лишь падшим внятен «божественный глагол».
Подобного же рода ориентации придерживается прозаик, появившийся лишь в середине 1990-х годов, — Наталия Толстая, старшая сестра достаточно известной Татьяны Толстой. Пишет она исключительно рассказы, то есть работает в жанре, современной русской литературой заброшенном. Резонанс у них тем не менее большой. Особенно в университетских коридорах, откуда они и вышли. Действие рассказов Наталии Толстой происходит во времена, когда «советская власть, почти родная, ушла не попрощавшись. Ни инструкции не оставила, ни тезисов». Подспудный сюжет этой прозы — анализ сознания, ловко приспосабливающегося к бытию. Жизнь нехороша, но «жить надо».
Наиболее представительные и влиятельные до сегодняшнего дня петербургские авторы появились на невских берегах как раз в ту минуту, когда «петербургское веяние» казалось окончательно сошедшим на нет. «Серебряный век» расползался по коммуналкам, подвалам и чердакам «серебряной ветошью». Еще раньше он был отпет Михаилом Кузминым, Константином Ватиновым, обериутами и наконец погребён в ахматовской «Поэме без героя».
«Оттепель» обнаружила скорее заброшенное
кладбище, чем «цветущую культуру».
Не спорим: найденные кресты сердцу оказались дороги, и взглянуть «на то, что оказалось за спиною», чтобы уберечься от соблазна всяческих имитаций и гальванизаций, было трудно.
Удостоенному «нобелевки» лидеру питерского бесхозного поколения Иосифу Бродскому обретение области «частного существования» представилось драгоценней культурных открытий, которыми это поколение жило. Если он что и перенял у «серебряного века», так это его потаённую провинциально-петербургскую суть: ратуя за «хоровые начала», вдыхать аромат жизни «келейно». Отвращение к грубой площадной славе у нобелевского лауреата с самого начала зашло столь далеко, что и источник славы был поставлен под сомнение.
В двойственном отношении к культуре, часто нигилистическом в устах наитончайших её выразителей, можно увидеть родовую травму петербургского творца. Обусловлена она известной антиномией, границей, проложенной в сознании петербуржца между «культурой» и «природой». По естественному положению вещей «природу» он может предпочесть «культуре», ибо «природой» обделён сильнее. Современные власти попали в точку, соблазняя питерского существователя шестью сотками загородной земли.
Русская духовная традиция, особенно энергично выраженная в XX веке отцом Павлом Флоренским, вообще склонна проводить между «природой» и «культурой» роковую черту, настаивать на возникновении «культуры» исключительно из религиозного «культа». Она почти не даёт шансов понимать «культуру» в европейском, латинском смысле—как сферу человеческого бытия, связанную изначально с обработкой земли.
У Бродского «целовать иконы» христианских чувств всегда недоставало. А потому он вынужденно склонялся к пребыванию в сфере «культуры», сфере бесполезной, но все же благодатной:
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи перо! переводи бумагу.
В известной работе «Петербург и “Петербургский текст русской литературы”» Владимир Топоров пишет: «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим в России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал».
Бродский и явил собой подобный «почти религиозный тип» поэта как ответ на «бесчеловечность» и неодушевлённость умножающей петербургской культуры. Он, как никто, видел этот исчезающий мир во всём многообразии примет тления, видел исчезновение.
Бродский — метафизик в буквальном и древнейшем значении этого понятия. Он видит то, что лежит «позади природы». И то, что «позади», является для него «первым».
Вся лирика Бродского суть сплошной метафизический пейзаж, увиденный с высоты «наведённым на резкость» взглядом. Сила этого зрения зависит от глубины погружения художника внутрь самого себя: из «темноты» видно отчётливее. Внутренний мир поэта первичен, но выражающая его речь стремится к возможно дальней и идеальной проекции. При помощи речи поэт отдаёт себя на служение лирической истине: «он был всего лишь точкой. И точкой была звезда».
Любой человек в Петербурге не равен самому себе, не в ладу со своей интуицией о превосходстве частного сознания над коллективным разумом. Он или выше, или ниже своего назначения, он загнан или вознесён. «Как будто мы живём на небе, плача», — пишет поэт Елена Пудовкина.
Иначе говоря, петербургский автор утверждает лишь то, над чем можно тут же посмеяться. Об истине здесь осведомлены по отбрасываемой ею тени. В руках художника лишь «обезьянка истины» — смех, утверждает Набоков. Сатира у петербургского поэта — лирический жанр. Как, например, у Льва Лосева:
О муза! Будь доброй к поэту,
пускай он гульнёт по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб жёлтым зажегся в графине
закат над его заливным.
Выпестованный Достоевским «антигерой» стал «героем» петербургской литературы. В советское время он много выиграл в сравнении с пламенными конформистами, заполнявшими не столько даже страницы книг, сколько ряды кресел ленинградского Дома писателя им. В.В. Маяковского, бывшего дворца графов Шереметевых. Лет десять тому назад он сгорел, да так по сию пору и не восстановлен, от писателей же ускользнул навсегда. Божественная ирония здесь в том, что девизом Шереметевых, запечатлённым в их гербе, являются слова «Deus conservat omnia» — «Бог сохраняет все». «Особенно слова», — дополнил Бродский.
В Петербурге самые наивные, самые пошлые мечты о счастье трагичны своей смехотворностью.
В беспочвенном, «умышленном» городе «маленьких людей» и грандиозных фантомов сформировался и был сформулирован комплекс идей, с шестидесятых годов XIX века называемых «почвенническими» и особенно актуальных для отечественных дискуссий конца ушедшего века.
Доминантным признаком петербургского типа культуры изначально оказался двойной счёт: утопическая надежда создания парадиза над бездной и соседствующая с ней инстинктивная жажда «стать твёрдой ногой на твёрдое основание» — по выражению гоголевского героя. То есть жажда укоризненности, мечта о независимом от Провидения частном существовании. У петербуржца сама вечность «раздвоена», говорит Андрей Битов.
О целом петербуржец узнает по трещине в монолите. Раздвоенность для него — не всегда и не обязательно ущерб. Восхитительным образом Александр Кушнер выводит из неё догмат о возможной полноте бытия:
Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!
Несомненно, подобные стихи должны были сложиться в городе, принявшем за культурную аксиому тезис прямо противоположный — о неполноте человеческого бытия.
Двойной петербургский счёт и породил новый тип людей — знаменитую русскую интеллигенцию.
«Маленький человек» Петербурга — это и есть интеллигент. По меньшей мере — его неотлучный двойник. Что выдаёт его последнюю тайну: он человек романтического закала. Классический романтик. «Маленький человек» в поисках Бога. Вне соборных стен.
Поскольку сама же интеллигенция и понимала свой первороднопетербургский грех визионерской «умышленности» лучше других, она и выработала защитную «почвенническую идеологию». Это нужно подчеркнуть: «почвенничество» как таковое возникло в самом интеллигентском из российских городов, в самом беспочвенном углу необозримой империи. Беспочвенном даже и буквально: нет почвы, одни разверстые хляби, болота да экспроприированный у финнов гранит.
«Глухая провинциальность» не смущала самих провинциалов, наоборот, подталкивала и провоцировала их на осознание своей общемировой миссии. «Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения, — писал Достоевский. — К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем».
В Петербурге идеи Достоевского были популярнее, чем где-либо, но популярность эта всегда носила обоюдоострый характер, характер приятия-неприятия. Да и само его «почвенничество» далеко не всегда выходило на первый план. Общечеловеческое значение Достоевского к XXI веку обозначилось благодаря актуализации другой стороны его расколотого сознания. При всей своей неизменно декларируемой русскости, при всем своём «почвенничестве», при всём признании народных ценностей как высших в истории, Достоевский в петербургских вещах оказывается едва ли не самым «беспочвенным» писателем России— да и всего мира, — непроизвольным носителем заповедей духовного странничества, художником в высшей степени планетарным, урбанистическим, певцом подпольного, неорганического быта и бытия.
Совершенно закономерно, что в современной России мыслители, отвергающие ценности «Петербургского периода русской истории», люди, грезящие патриархальной «русской идеей» в противовес «петербургскому веянию», люди, «в сумерках просвещения» поставившие на «свет с Востока», —люди эти не признают и русскую интеллигенцию.
Точно так же характерно, что магический центр этой неприязни находится в самом Петербурге. Причём не среди люмпенизированных слоёв, а среди интеллектуальной элиты. Например, той ее части, что получила крещение в кругу Льва Гумилёва, успешного проповедника идеологии евразийства.
Для этого круга интеллигенция — это недоучившаяся и бездарная часть гуманитариев с непомерными амбициями. Типичный интеллигент, по их концепции, — Ленин. Довод столь же эффектный, сколь и наивный. «Беспочвенный революционаризм» «идейному почвенничеству» противопоставляют сами же интеллигенты. Авторы «Вех», Федотов, неославянофилы, евразийцы — все они оставались и остались настоящими интеллигентами петербургского толка.
Еще раз: создатели всех оттенков «почвеннических» теорий в России — это жители Петербурга, его интеллигенция. К крестьянскому сословию или к государственной администрации никто из них не принадлежал и не принадлежит. «Природа» для них — усадьба, а не пашня. Их учителя — выкристаллизовавшие свои теории в петербургском журнале «Время» Достоевский и Аполлон Григорьев — самые городские, самые интеллигентские наши писатели XIX века. Не только по биографии, но и по духу творчества. Лишь в городе, в котором лучше всего ощущается долг человека перед землёй и жажда этой земли, подобные теории могли стать мироощущением.
Нечего говорить: все наше «почвенничество» — лишь старинный спор интеллигентов меж собою. Совестливый спор о виновности или злобный — о виновных. Никакой «народной правды» он не выражал ни полтора столетия тому назад, ни на исходе советского периода, ни сегодня. Зато провоцировал и провоцирует на диалог, в котором проявляются потенции свободы, заложенные в России петербургской культурой.
Александр Блок писал в начале прошлого века о Петербурге как о «глухой провинции». «А глухая провинция, — уточнял он, — страшный мир», весь мир современной поэту «гуманистической цивилизации». Помня заветы Блока, современная петербургская культура ощущает периферийность нашего личного положения в мире как сокровенную тайну нашего существования. Если и есть для петербуржца свет в конце туннеля, то это — белая ночь.
Или еще так:
Если выпало в Империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции у моря.