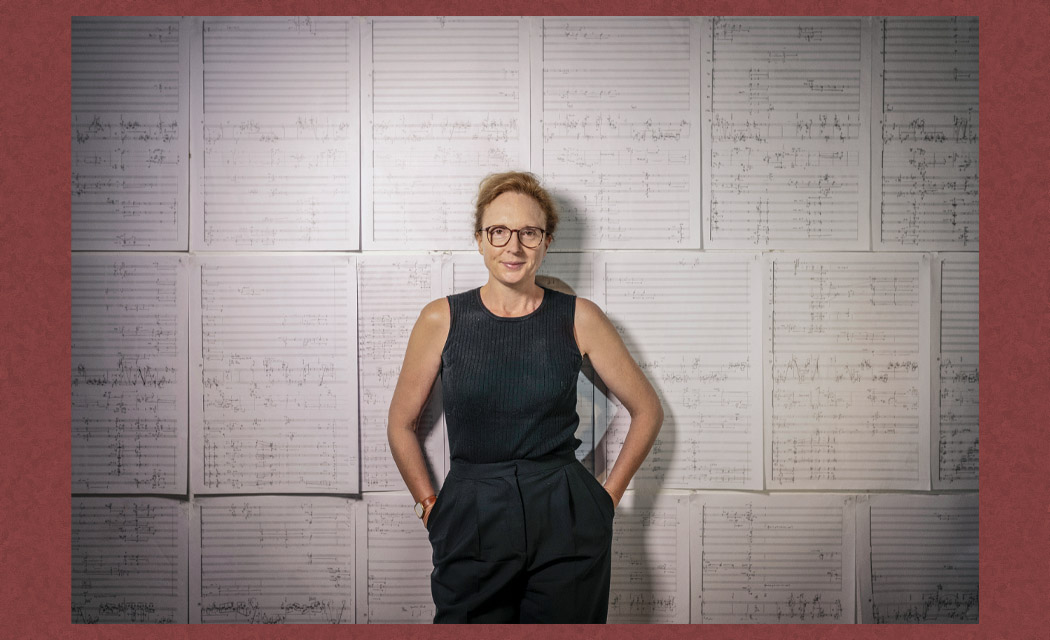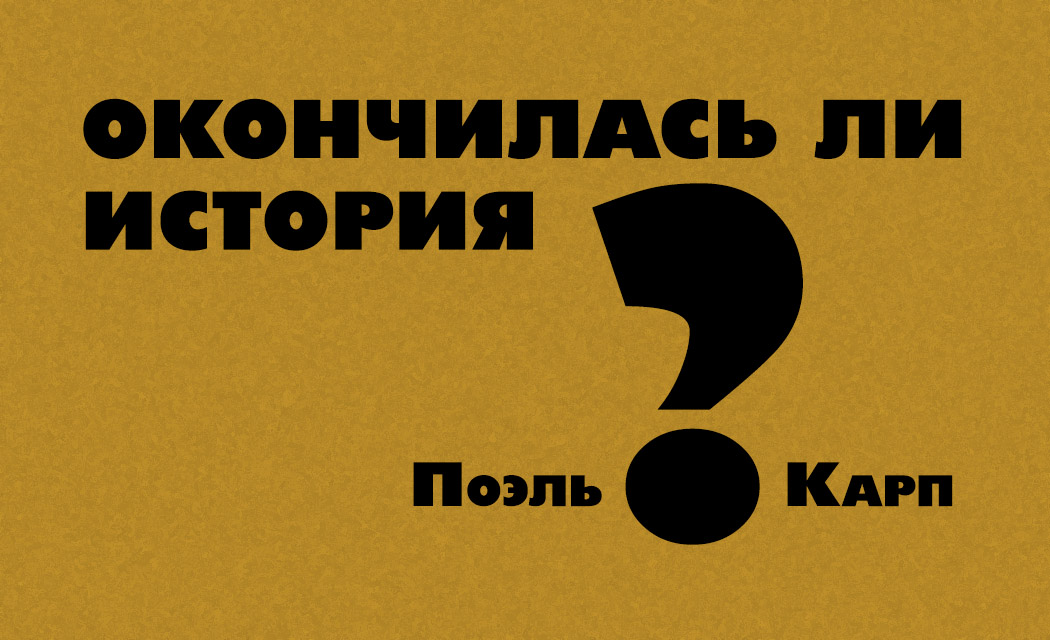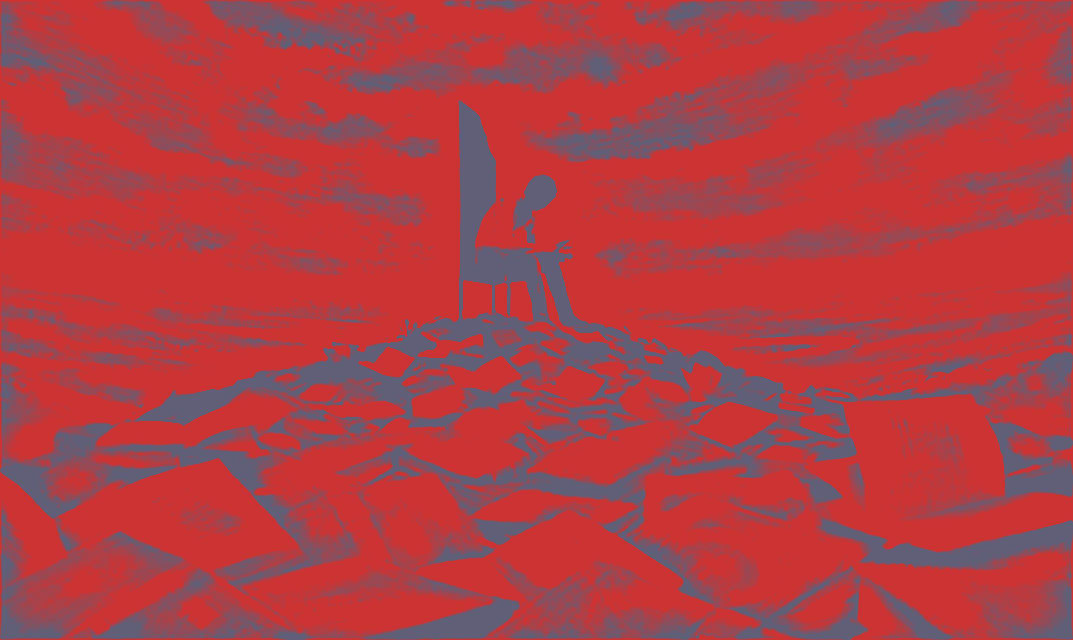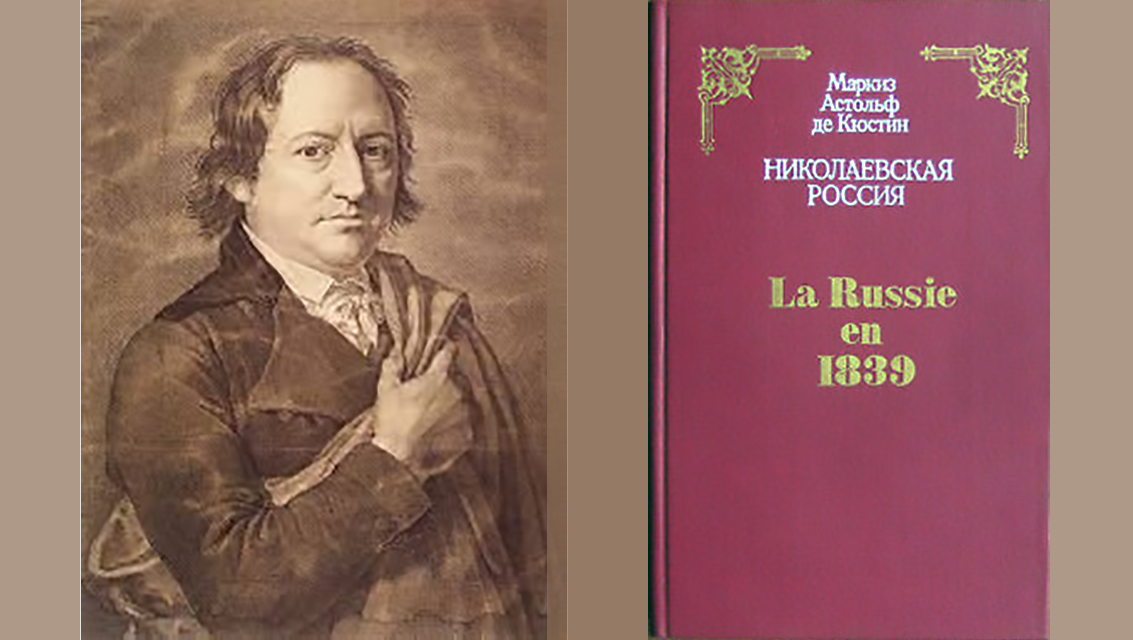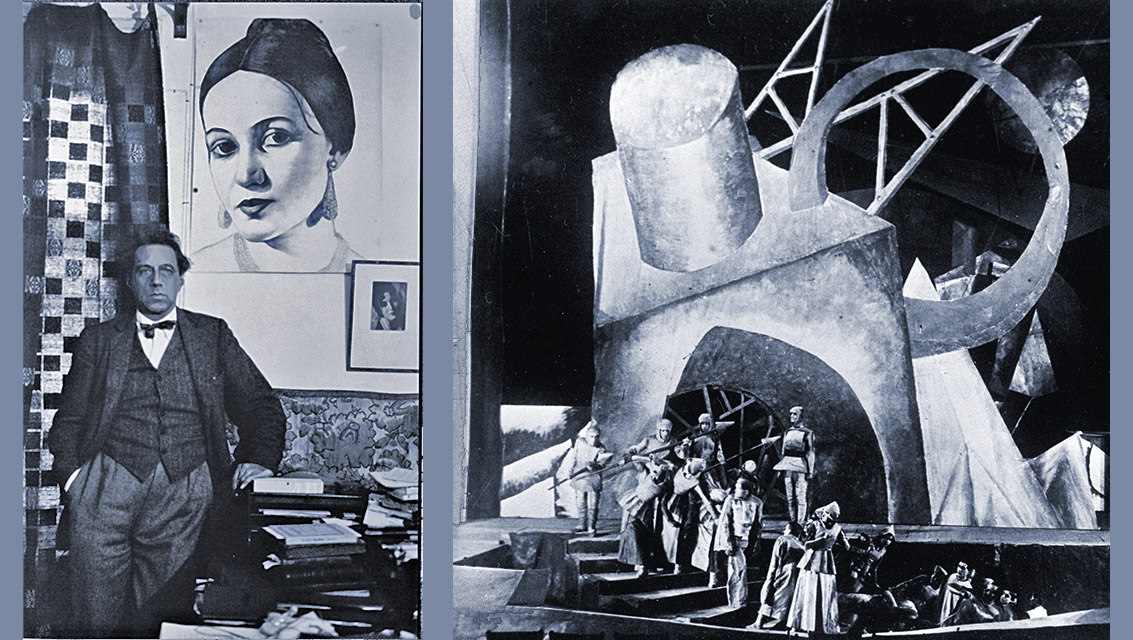II. Серапионы: в Питере и в Европе
Путешественник Николай Никитин
Пятеро Серапионов (из их табельного числа) родились в Петербурге. Среди них и Николай Никитин (а еще — Слонимский, Груздев, Тихонов и Лунц). В 1915 году Никитин поступил на филологический факультет Петроградского университета и занимался там по собственной программе, включавшей прослушивание лекций на юридическом. В 1917 году он сам из университета ушёл. Близорукость (глазная) спасала его от армии и боев: от царской—в 1915 году и от Красной — в 1918 году. Точнее, в Красную его все-таки забрали, но дали служить в Политуправлении Петроградского укрепрайона культпросветчиком, и служил там Никитин вплоть до 1922 года — так что Серапионы успели привыкнуть к его аккуратной, чистенькой гимнастёрке.
 Литературой Никитин интересовался с юности, когда начал пописывать и посылать свои вещички в бойкие журналы — в 1916 году его напечатал «Весь мир». После революции желание писать и печататься не прошло, но было ощущение: все так переменилось, что и литература должна обновиться, не ясно было только — как? Поэтому, когда в 1920 году шёл Никитин по Невскому и увидел возле Мойки афишу: «Студия Дома искусств», он тотчас же в Дом искусств завернул и в Студию записался. Так он стал слушателем Замятина, Ремизова, Шкловского, Чуковского и был ими замечен. С будущими первыми Серапионами Никитин, таким образом, познакомился и сошёлся еще в Студии и по справедливости мог считать себя одним из основателей Братства. В Студии на молодого Никитина повлияли сильно Ремизов и Замятин, и, когда литературные времена под влиянием обстоятельств политических переменились, ему пришлось от этого факта решительно отмежёвываться.
Литературой Никитин интересовался с юности, когда начал пописывать и посылать свои вещички в бойкие журналы — в 1916 году его напечатал «Весь мир». После революции желание писать и печататься не прошло, но было ощущение: все так переменилось, что и литература должна обновиться, не ясно было только — как? Поэтому, когда в 1920 году шёл Никитин по Невскому и увидел возле Мойки афишу: «Студия Дома искусств», он тотчас же в Дом искусств завернул и в Студию записался. Так он стал слушателем Замятина, Ремизова, Шкловского, Чуковского и был ими замечен. С будущими первыми Серапионами Никитин, таким образом, познакомился и сошёлся еще в Студии и по справедливости мог считать себя одним из основателей Братства. В Студии на молодого Никитина повлияли сильно Ремизов и Замятин, и, когда литературные времена под влиянием обстоятельств политических переменились, ему пришлось от этого факта решительно отмежёвываться.
В 1921 году написал Никитин повесть «Кол» на северном материале (Никитины родом с Севера, и каждое лето его ребёнком туда возили, так что тамошнюю природу, быт, речь знал он неплохо). «Кол» была повесть отнюдь не фольклорная, а о самой что ни на есть пореволюционной современности. Писать по-новому тогда Никитин понимал, как писать новым для литературы языком: северные говоры такую новизну позволяли реализовать запросто. И все же, хотя наречие, на котором написан «Кол», не всегда питерскому жителю понятно, надо признать: вещь сделана не без некоторого даже щегольства. Ее восемь главок повествуют о Севере эпохи продналога, о том, как расстреляли совсем темных рыбаков и крестьян только за то, что словесно выразили возмущение нескончаемыми поборами. Нынешнему читателю повесть практически недоступна, поскольку была напечатана один-единственный раз в 1922 году в берлинском малоформатном и малотиражном альманахе «Пчелы», содержавшем 150 страниц текста и имевшем под заголовок «Петербургский альманах». И больше — никогда. Хотя в России было несколько попыток «Кол» напечатать, попытки, кажется, анонсировались, во всяком случае о них говорили и писали в письмах, но каждый раз дело срывалось — даже у самого А.К. Воронского, который Никитина тогда печатал в «Красной Нови», хотя и ценил пониже, чем Вс. Иванова.
Сегодня в России из прочитавших «Кол» знаю только себя, но, поскольку опросил далеко не всех читателей Никитина, допускаю, что есть и еще кто-то, но пальцев одной руки для пересчёта читавших, думаю, хватит.
Повесть «Кол» имела в литературном Петрограде успех огромный (Никитин ее читал публично и, возможно, не раз). Пожалуй, это был первый крупный успех прозы Серапионов в целом. Появились и рецензии; они сегодняшним читателям доступнее самой повести. Особенно пылкой была написанная Мариеттой Шагинян — в ней заявлено внушительное: «Если б ничего не было написано за текущий ряд лет, а только один этот “Кол”, одиноко, стоял бы в русской литературе, — мы все же имели бы художественный образ эпохи». Внимательно знакомился с работой Никитина и самый политически весомый критик в тогдашней России — Лев Троцкий, хотя повесть «Кол», мне кажется, он не прочёл. В «Литературе и революции» сказано о Никитине аргументированно резко, но не враждебно:
«Тревогу возбуждает прежде всего явственная нота цинизма, которая у Никитина принимает моментами злокачественный характер». Насчёт цинизма сказано правильно, хотя Троцкий имел в виду циничное отношение к революции, а беда Никитина была в уже появившемся циничном отношении к литературе. Серапионы с диагнозом Троцкого соглашались — они знали, что под нажимом редакций Никитин легко меняет красных на белых и наоборот, по сути губя написанное. Зато Никитин сочинял легко, быстро и так же легко и быстро решал с издательствами и редакциями спорные вопросы (их становилось все меньше) — власти им были довольны.
«Кол» — сегодня это можно утверждать точно — самое свободное и, конечно, самое опасное для режима из написанного Никитиным; он это и сам чувствовал, поэтому с некоторых пор не упоминал его в своих поздних и достаточно подробных автобиографиях; не упоминает повести «Кол» и сверхосторожный Федин в книге «Горький среди нас», где Серапионам посвящены сердечные страницы.
В 1923 году Николай Никитин, откровенный и убеждённый Серапион – восточник, первым из Братьев и, надо думать, не случайно получил от властей ценный подарок — разрешение съездить на Запад, в Англию (уехавший еще мальчиком с родителями Вова Познер и отправившийся умирать смертельно больной Лев Лунц тут не в счёт). От такого подарка, Серапионы это почувствовали, Никитин пришёл в восторг.
В путешествие он отправился вместе с еще большим восточником, хотя и не Серапионом, Пильняком, достигнув Англии морем. Через некоторое время по делам литературным Никитину пришлось на недельку выбраться в Берлин, где он, понятно, общался с многочисленными русскими, заполонившими немецкую столицу. Тогда-то он и почувствовал, что в Берлине (в отличие от Англии) его неплохо знают, и вообще — за работой Серапионовых Братьев там следят и даже некоторых новых русских прозаиков (не Серапионов) числят Братьями, как, скажем, того же Пильняка. Конечно, в Берлине Никитин был озабочен не одними лишь литературными делами. Нина Берберова, уехавшая в Германию с Ходасевичем, в Петрограде Серапионов знала и в знаменитой книге «Курсив мой» едва ли не презрительно описала, как в пансионе Крампе увидела Никитина в состоянии вырвавшегося на свободу молодого бычка. Впоследствии это именовалось умением радоваться жизни.
Такое умение поначалу не мешало Никитину видеть жизнь в ее многогранности. Из Берлина он писал 15 июля в Гамбург Серапионову Брату Лунцу: «У Германии — чужое небо и чужая жизнь. Русские здесь как клопы в уездной гостинице. К ним привыкли, но в несчастной жизни германского народа какие мы лишние, пустые, ненужные» (его ощущения в Германии, естественно, совершенно иные, нежели, скажем, ощущения Серапиона Федина, но об этом дальше).
Главные радужные впечатления поездки 1923 года были у Никитина все же английскими — именно Англия его поразила и очаровала (хотя мы этого и не найдём в его лихих и конъюнктурных путевых очерках, едко высмеянных Замятиным). В личных письмах Никитин был откровенен, более того, по меркам чуть более позднего времени — опасно откровенен. Так, 20 июля он информировал из Лондона своего московского литбосса Воронского: «Остался бы в Англии (представьте себе эту фразу, написанной нашим соотечественником лет, скажем, через 40 — о сталинской поре и не говорю — из того же Лондона, допустим, Суслову! —Б.Ф.). Здесь тихо и хорошо жить и писать. Но надо в Россию…» Пятью днями раньше Никитин писал Лунцу: «Лондон — обстоятельный город. В Англии жить удобно и спокойно. Если бы тебя поселить рядом с Британским музеем, ты бы остался там на всю жизнь. Я к несчастью этого ценить не умею (напомню: это пишет Серапион-восточник Серапиону-западнику. — Б.Ф.). И не люблю музеев, не потому, что не люблю культуры, а просто не понимаю вкуса вещей, разложенных аккуратно на полках, где смотреть можно, а изучать нельзя. Мне, чтобы понять, надо впиться зубами». И через неделю, уже утомившись от Лондона, повествовал об Англии едва ли не игриво: «Эти дни я вздохнул, жил на Leigh-on-Sea, английский курорт, купался, ходил под парусами, купался с милыми англичанками — рыжими, как золотые рыбки».
В России — глухая китайская стена, Россия — ночь, но мы должны быть светляками, наше место там.
Надо сказать, что еще в берлинском письме Никитина Лунцу были высказаны соображения вполне патетические: «Запад должен раздвинуть черепную коробку. Но сидеть здесь нельзя. Если не бывать в России, тут можно сдохнуть. В России — глухая китайская стена, Россия —ночь, но мы должны быть светляками, наше место там. Мне свободнее здесь, но я не чувствую стен, в которые можно было бы упереться, чтобы почувствовать сопротивление, потому всякий писатель здесь, как болван, с отброшенными в стороны руками, но без напряжения…» Серапионы знали, что патетика вообще любима Никитиным; здесь же она была абсолютно искренней и свободной — никакого резона лукавить или притворяться у него не было. Однако Лунц воспринял это письмо полемично: «Мне все представляется много проще и—красивей! Ты очень хорошо написал о “русских стенах, на которые можно опереться.” Но, поверь мне, то же чувствует немец в Германии, абиссинец в Абиссинии и индус в Индии. Каждому его родина кажется лучшей для него, и горе тому, кто в этом усомнится!.. Но говорить, что Россия вообще лучше других стран — бахвальство и идиотизм. Для нас выбора нет и не может быть: наш язык, наша земля, наша плоть и кровь — там, как бы плохо или хорошо там ни было… Наши русские в Берлине живут там неизвестно почему (не политические), скулят, лопают бифштексы и ругают немцев. Поучились бы у них работать, сволочи, или назад в Россию езжали бы…» Никитину пришлось объясняться: «Говоря, что Россия лучше других стран (хотя я никак не могу припомнить — действительно ли говорил я это), я совсем не думал бахвалиться, — она мне роднее, милее, ближе… С тех пор, как я побывал в Берлине, меня не соблазняет умение рассуждать спокойно и здраво — т.е. объективная точка зрения (Ходасевичевская). М.б., мне ехать сейчас в Россию наиболее тяжело, чем тогда — когда я там жил, не выезжая. Но возвращаюсь я, умудрённый — здоровье страны не в отыскании зла, а в нахождении добра. Т.е., м.б., то, чего требовали (паршивое слово) большевики. Должен тебя предупредить, что эту мудрость я почерпнул, отнюдь не толкаясь в передних советских канцелярий, я не был ни в одной, а насмотревшись на заграничную жизнь, вернее, присмотревшись к ней… Отбросы — это эмиграция, и ее атмосфера. При самых идеалистических мыслях, они все-таки воняют нетерпимостью и ненавистью, и эмигрантская молодёжь (с ней мне приходилось сталкиваться) так же воняет тупостью, как наши комсомольцы…»
 В 1928 году Никитина снова выпустили на Запад, но он был уже другим: покладистый человек при все усиливающемся давлении быстро теряет себя, и серьёзные мысли занимали теперь Никитина мало. Он побывал в Париже, где пытался заинтересовать издателей своими новыми книгами; встречался с Ильёй Эренбургом (несколько парижских писем Оренбурга у него сохранилось); упоминает Никитина и Бабель в парижском письме в Москву. Помимо Парижа Никитин был и в Берлине, где тогда оказались одновременно трое Серапионов — Груздев и Никитин с жёнами и Федин без жены. Их постоянным гидом был общительный Роман Гуль; он не ленился записывать услышанные рассказы и свои впечатления от гостей, а на основе таких вот записей составил впоследствии трёхтомные мемуары «Я унёс Россию». Из встреч 1928 года с Серапионами Гуль сделал вывод, что они недолюбливают друг друга. Что же до Никитина в Берлине, то несколько страничек первого тома воспоминаний Гуля, этому посвящённые, вполне благодушны, причём «Колька Никитин» исчерпывающе характеризуется там тремя словами: «бонвиван», «брандахлыст», «жуир».27 Я потому цитирую здесь Гуля, что он пусть подчас и предвзят, зато по части изложения старых своих записей цензуры не наводит и не боится кому-нибудь повредить. А прежде, общаясь с гостями из СССР и записывая впечатления от этих встреч, он был пристально внимателен, потому как хотел понять, что же происходит на родине. Так, описывая сцену в кабаке возле Александерплац, когда оркестр неожиданно заиграл «Интернационал» и Груздев признался, что рефлекторно чуть было не вскочил из-за столика, Гуль приводит радостную реплику Никитина: «Здесь можем и посидеть, слава Богу». Никитин не был человеком идейным, он был человеком слабым и, пожалуй, даже легкомысленным. Во всяком случае, Гуль не смог вспомнить ни одного его стоящего суждения, но зато запомнил его весёлым, живым, любящим застолье и всевозможные радости жизни, которые тогда легко можно было получить лишь на Западе. Вполне владея литературной техникой, Никитин, увы, быстро утратил и зоркость, и свою тему. Впрочем, пройдёт совсем немного времени, и зорких советских прозаиков почти не останется…
В 1928 году Никитина снова выпустили на Запад, но он был уже другим: покладистый человек при все усиливающемся давлении быстро теряет себя, и серьёзные мысли занимали теперь Никитина мало. Он побывал в Париже, где пытался заинтересовать издателей своими новыми книгами; встречался с Ильёй Эренбургом (несколько парижских писем Оренбурга у него сохранилось); упоминает Никитина и Бабель в парижском письме в Москву. Помимо Парижа Никитин был и в Берлине, где тогда оказались одновременно трое Серапионов — Груздев и Никитин с жёнами и Федин без жены. Их постоянным гидом был общительный Роман Гуль; он не ленился записывать услышанные рассказы и свои впечатления от гостей, а на основе таких вот записей составил впоследствии трёхтомные мемуары «Я унёс Россию». Из встреч 1928 года с Серапионами Гуль сделал вывод, что они недолюбливают друг друга. Что же до Никитина в Берлине, то несколько страничек первого тома воспоминаний Гуля, этому посвящённые, вполне благодушны, причём «Колька Никитин» исчерпывающе характеризуется там тремя словами: «бонвиван», «брандахлыст», «жуир».27 Я потому цитирую здесь Гуля, что он пусть подчас и предвзят, зато по части изложения старых своих записей цензуры не наводит и не боится кому-нибудь повредить. А прежде, общаясь с гостями из СССР и записывая впечатления от этих встреч, он был пристально внимателен, потому как хотел понять, что же происходит на родине. Так, описывая сцену в кабаке возле Александерплац, когда оркестр неожиданно заиграл «Интернационал» и Груздев признался, что рефлекторно чуть было не вскочил из-за столика, Гуль приводит радостную реплику Никитина: «Здесь можем и посидеть, слава Богу». Никитин не был человеком идейным, он был человеком слабым и, пожалуй, даже легкомысленным. Во всяком случае, Гуль не смог вспомнить ни одного его стоящего суждения, но зато запомнил его весёлым, живым, любящим застолье и всевозможные радости жизни, которые тогда легко можно было получить лишь на Западе. Вполне владея литературной техникой, Никитин, увы, быстро утратил и зоркость, и свою тему. Впрочем, пройдёт совсем немного времени, и зорких советских прозаиков почти не останется…