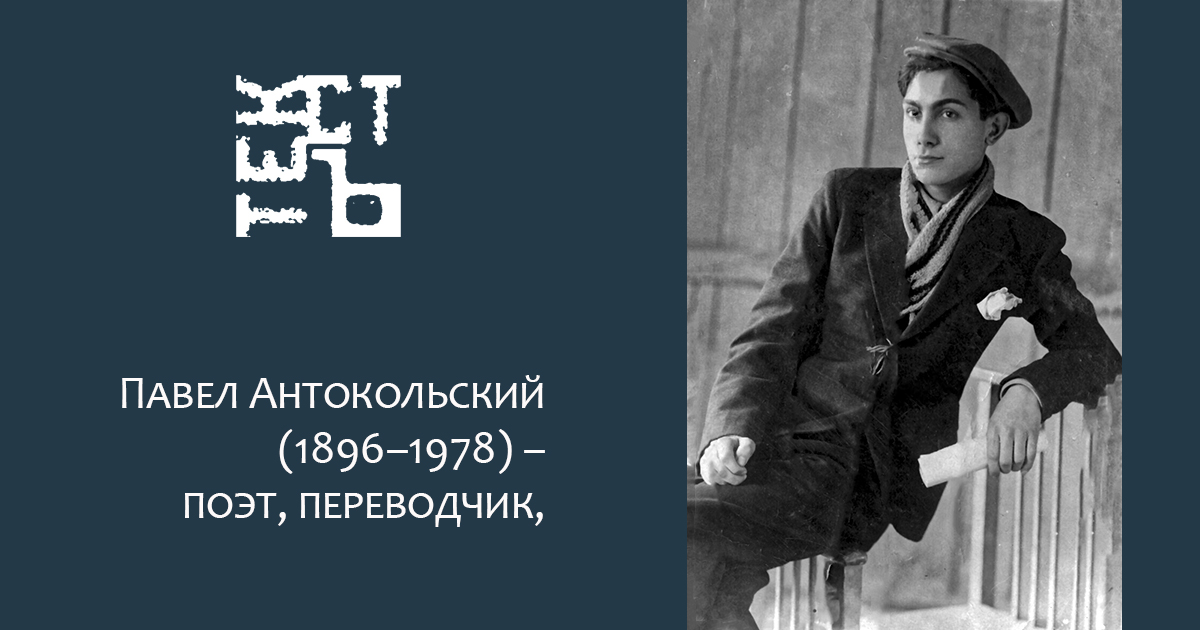Презентация книги «Мгновения»: 20 мая 2019 года в 18.00, Фазанен штрассе 79-80, Берлин, малый зал.
Из Московской тетради
Перед штурмом
«Какая нежность – впору умереть».
Есть сила чувства в этой странной строчке,
так вовремя поставленная точка
пленит нас крепче, чем словесной вязи сеть.
Над Кара-Дагом облака низки,
и кажется, они всё ниже, ниже,
пустынны пляжи, волны высоки,
курортники, как ласточки, под крыши
забились.
В страхе поползли пески,
а горы словно сдвинулись поближе.
Какая сила в шуме волн, в молчанье скал,
как беспощаден надвигающийся вал,
как обнажилось хищное начало,
которое, лаская, разрушало
гранитную, доверчивую твердь.
Но морю штурмом гор не одолеть!
Где взять слова, как описать суметь,
что видишь глазом?
«Впору умереть!»
Легенда о божьем даре
Сначала
В нём музыка тревожная звучала,
Давила
Какая-то неведомая сила.
Но свыше
Зовущий тихо глас он не услышал
И долго
Пытался быть рабом семьи и долга.
Чужое
Напрасно ремесло хотел освоить,
Но мало
Постиг в холодной логике металла.
Иные
В душе его звучали позывные
И уши
Он закрывал, чтобы не рвались звуки в душу.
А звуки
В грозу манили, как в объятья руки,
Томили
Виденья смутные и ощущенье крыльев.
Но дурью
Звала жена томление по буре.
«Работать
Тебе, мой милый, - говорила , - неохота,
Томленье
В здоровом мужике всегда от лени!»
За плечи
Её он обнимал и не перечил.
Но ночью
Она заголосила что есть мочи,
Не веря,
Что руки его сплошь покрыли перья.
Хоть ужас
И овладел женой от вида мужа,
А бабой
была она по виду хрупкой – но не слабой,
Тигрицей
Рванулась к мужу, ощипала словно птицу.
К рассвету
На коже не осталось даже следа,
И руки
Он, плача, целовал своей подруге,
Не зная,
Что божий дар за кару принимает.
Всевышний
Глаза отвёл, увидев, что он лишний.
«Бабёнку, -
Решил, - за преданность вознагражу ребёнком,
А мужа, Бог с ней, оставлю, коль он ей так нужен…»
Но всё же
В душе жалел, что погасила искру божью.
У Бога
Свой дефицит, и божьих искр немного.
Так Богу
Простая баба перешла дорогу
И победила
Извечным – тем, что мужика любила.
А парень
Какой родился! Только муж бездарен.
Ну что же…
Не каждому даётся искра божья!
* * *
Какая проза – в сорок лет
слыть начинающим поэтом,
когда иных на свете нет,
и впереди, увы, не лето.
И ужасается рука
безмерной тяжести задачи,
поэты – баловни удачи
поглядывают свысока,
но просто жить нельзя иначе.
А белый лист, как эшафот,
когда вокруг столпились люди
и жертва еще чуда ждет,
но чудо не произойдет,
и казнь отменена не будет.
А будет белый лист манить,
как манит плаха в миг последний.
Но опоздавшему к обедне
к вечерне можно не спешить…
Предок
Так кто он был, безвестный предок мой,
что брел по желтой тишине пустыни?
И почему глаза его и ныне,
как совести укор передо мной?
Я рос в России, здесь моя судьба -
как прядь в канате многих сходных судеб.
Полет ракет и черная изба,
размах, убогость, праздники и будни -
здесь все мое, мне нет иных путей,
умру при русском звоне погребальном…
Но он приходит ночью… „Ты – еврей,“ -
читаю я в глазах его печальных.
„Оставь, - я говорю ему, - уйди,
я с детства этим сыт, как кашей манной!“
Он исчезает.
Что ж так жжет в груди,
когда я просыпаюсь слишком рано?
Монолог умирающей собаки
на площади Ногина 8 июля
от жары умерла собака.
Лежу,
лижу асфальт горячий.
Хозяйка бьется надо мной,
то обольет меня водой,
то поцелует, то заплачет.
Что плакать? Я пока – живой.
Гляжу в последнее окошко -
в просвет меж сдвинутых голов.
Рот, что орет о неотложке ,
молчи, не надо докторов.
Осталось жить совсем немножко.
Асфальт расплавлен, как металл,
и, как асфальт, чернеет небо.
Глоточек молодости мне бы!
Что зря молить, чтоб я вставал?
Зря плачет - жизнь была собачья…
Но разве лучше у нее?
Я – друг единственный ее!
Единственный, а это значит,
я ближе ей, чем тот, на даче,
дороже, чем его вранье.
Пошли ей, господи, удачу…
Асфальт,
хозяйка,
воронье.
Салон
На скромной кухоньке стена
резной украшена доскою.
С затейливостью городскою
в доске тоска отражена
по деревенскому покою.
Наивна грубая скамья,
фонарь-коптилка над плитою,
а на хозяйке кружевное,
то ль пончо, то ли что иное,
о чём спросить стесняюсь я.
Компания всегда одна:
хозяйка – бывшая актриса,
сосед – редактор из «Совписа»,
художник – ярый враг вина,
но пьющий водочку «до дна».
Все в возрасте, но без имён,
не избалованы вниманьем,
и, может, это моветон,
но у хозяйки свой резон,
на кухне принимать компанью.
Уверен, и в Париже нет
уютней этого салона,
хоть заменяет винегрет
и водка с огурцом солёным
коктейли, устриц и фуршет.
Я так люблю от суеты
сбежать сюда под воскресенье,
молчать, топить в вине сомненья
и грусть несбывшейся мечты,
и знать, что здесь бываешь ты…
Из украинской тетради
Размышления у памятника Изабелле
Роскошный памятник старик Цивян воздвиг
Над прахом незабвенной Изабеллы.
Он продал дом, чтобы над бренным телом
Навеки вознести нетленный лик
В металле и граните черно-белом.
Его жалели:
тронулся старик -
Стать нищим ради мёртвой…
Был велик
Цивян.
Он был любви достоин –
вот в чём дело…
Мне показалось,
что кивнула Изабелла.
У церкви «Святой Варвары»
Здесь был костел.
Совсем иная жизнь
запомнилась готическому своду.
Пылали свечи. От небес к народу
органа звуки медленно лились,
и католичек тонкие уста
спасенья душ молили у Христа.
Под эти своды новый век пришел,
слепым ударом смял клавиатуру,
и в вечность канули согбенные фигуры,
орган и даже память про костел.
Лишь Ватиканский всемогущий Бог,
печалился, что паству не сберег.
Ты не католик и не меломан.
Чего ж грустишь, совой на стены глядя?
Зачем воображенье, как в тетради,
рисует две фигуры и орган?
Зачем их образы ввысь устремленный свод
по переулкам памяти ведет?
И что тебе чужой орган, чудак,
когда в те годы не жалели человека?
Под звуки этого органа в прошлом веке
с графиней Ганской обвенчался де Бальзак.
Курортный роман
Короткий свет курортного романа…
Чтоб там ни говорили пошляки,
ханжи как ни клеймили б неустанно,
лучи его чисты и высоки,
а чувства дышат прелестью экранной,
где жизнь спрессованна и рамкой временной
определяется цена и суть мгновенья.
Как он смешон, седою головой
чужой жене припавший на колени.
И ей, изменщице, прощенья нет, и все ж!
Овеянные свежестью морскою,
поверившие вновь, что мир хорош,
как снова трепетны и юны эти двое,
как пьют любви пленительную ложь.
Что перед нею внутренний судья,
его средневековые одежды
нелепы и смешны, как ум невежды
перед извечной тайной бытия.
Как женщине на юге устоять
Перед напором искреннего пыла?
Она была к нему добрей, чем мать,
та, что его любовью одарила.
Как будет ей мучительна расплата
за сердца жар и за тепло руки.
Так криминальна их любовь иль свята?
„Одно и то же“ – поясняют знатоки.
Из венгерской тетради
Туман в Будапеште
Туманна Венгрия, туманна.
Зима иль осень, не поймешь…
Недавно или только «мошт»*,
холодный, грузный, словно морж,
пришел туман, как гость нежданный?
Я к этой влажной пелене,
зонтом повисшей над Дунаем,
как к сигаретам, привыкаю,
и в темный город проникаю
тайком, как юноша к вдове.
Как будто там, где нет огней,
в глубинах города чужого,
найду счастливую подкову,
которая вернет мне снова,
надежды юности моей.
И, может, пагубны туманы
в обычно солнечной стране,
но что-то темное во мне
клубится призрачно и странно.
Так варит ведьма на огне
свои снадобья и дурманы.
И то ль во сне, то ль наяву
бреду к вечернему туману,
плыву в плену самообмана.
Так тянет зелье наркомана,
а девушек весной – в траву.
Я не пытаюсь устоять,
мне эта сладостна отрава.
Плевать, что нет на это права,
но все ж бреду не влево.
Вправо.
Молчу,
а хочется кричать…
Туман…
(В такую его мать!!!)
*Мошт – сейчас (венгерск.)
* * *
Как страшно женщине стареть,
как нужно выглядеть моложе,
но время пауком по коже
плетет предательскую сеть.
Да, ей за сорок, это видно,
но посмотрите как легка
изящная ее рука,
как талия тонка завидно,
как юбки замшевой разрез
подчеркнуто высок и точен.
Кто, глядя на нее, захочет
суд ить: с разрезом ей иль без?
Какой мужчина не поймет
в ней жаркой прелести породы,
когда, пытаясь сбросить годы,
она средь глаз мужских идет.
Идет, как будто в гололед,
как по канату – не сорваться б!
И понимает – упадет.
Так опадает цвет акаций…
В подвале базилики венгерского города
Эстергома в открытых гробах покоятся
человеческие кости. Над ними надпись:
«Мы были такими, как вы!»
Мы – кости гробов Эстергома
здесь жили когда-то, как дома,
музейные эти хоромы
теперь ни к чему нам, увы…
Мы молоды были, как вы,
любили, надеялись, ждали,
казалось, мы были из стали.
Вглядитесь же в то, чем мы стали -
Господни пути таковы…
Мы жили скромнее, чем вы,
кормились трудами своими,
мы славили Господа имя,
но он нас и сделал такими –
мертвей прошлогодней травы.
Мы праведней жили, чем вы,
но лучше лежать на погосте,
чем жалкие бренные кости
являть приезжающим в гости
из Вены, Чикаго, Москвы.
И вы растворитесь, как мы,
в пучине грядущих столетий.
Пока вы на солнечном свете,
молитесь мгновениям этим –
мы были такими, как вы…