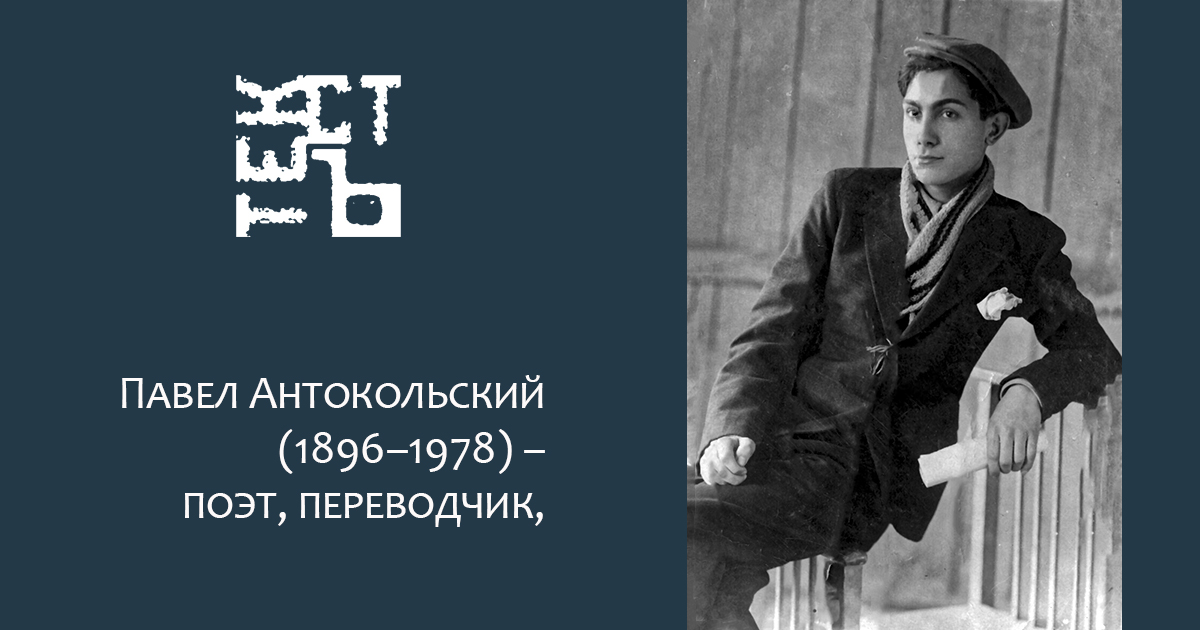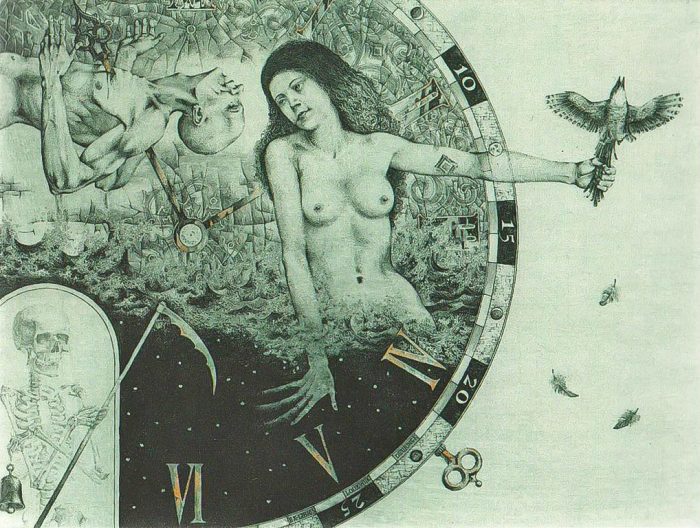
К. Калинович «Колесо жизни» ExL. Lodewijk Deurinck
* * *
Какое скоротечное искусство –
вот есть оно, а вот оно исчезло.
Раз место свято не бывает пусто,
то ближе к свету придвигаешь кресло.
Твоей великой тезке отголоском
шуршит в саду погасшая рябина,
искромсана закатом на полоски,
нелепая, как в цирке гильотина.
Здесь у окна, пока еще не смерклось,
и в облаках гуляют самолеты,
пытай себя, испытывай на смелость,
придумывай, откуда ты и кто ты.
Бездельница, пустышка, самозванка,
нафантазируй собственное тело,
пока незаживающая ранка
от яблока в спине не заржавела.
Измысли так, чтоб выхватить, нет, чтобы
спасти кого-то – только это вряд ли, –
твой тайный мир – пестрее гардероба
в провинциальном кукольном театре.
Пусть будет свет величиной искомой –
по капле собран, взвешен и развеян,
ты – майский жук «Из жизни насекомых»,
как доказали Чапек и Пелевин.
Замедленно, снегоподобно, дивно
с дубовой рамы облетает колер,
деревья вдалеке декоративны
за штукатуркой вымазанным полем,
они глядят, похожие на кукол,
из леса, из темнеющего сада,
ненужные – как ты, как пятый угол,
как пусто-место-не-бывает-свято,
как туч и луж надтреснутые блюдца…
Но что-то есть в твоем искусстве пылком,
что заставляет – нет, не обернуться, –
а ледяным почувствовать затылком:
дрожит в углу паучья позолота,
спят скомканные бабочки вповалку,
и вспыхивает пламя, будто кто-то
подносит к паутине зажигалку.
КАНАРЕЙКА В ШАХТЕ
Не расправивший крыльев, из клетки не смей,
то ли дело – из рощи твой брат, соловей,
зачинающий утро гортанно,
и когда надвигаются сотни чертей,
натыкайся шафрановой грудью своей
на прозрачные глыбы метана.
У проходчика уголь блестит в волосах,
и фонарик на каске – то выхватит страх,
то проникнет в такие глубины,
что тебе и не грезились на островах,
ячменя не клевавший, изнеженный птах,
не умеющий на голубином.
Подземельный чертог – невысок, но красив,
здесь по черному камню плывут караси,
плавниками орудуя бойко.
Внемли иже еси, ничего не проси,
только медную клетку слегка потряси,
чтоб качнулась лимонная долька:
«В этом царстве, куда ни теплу, ни лучу
не проникнуть, где в связке петровой ключу
не мерещиться с бухты-барахты, –
тьма, хоть выколи глаз, но прислушайся, чу:
я пою, и когда, наконец, замолчу,
то пора выбираться из шахты».
* * *
А. Г.
Вот жизнь в пустыне – то бархан, то бархат
песчаный, отвлекающий от жажды,
засыпавшие север, юг и запад
сплошные тяжбы.
Вот жизнь в лесу – упругими прыжками
крушит волчонок снежное стекло,
и так свободен, будто за флажками
не ждут его.
Вот жизнь у моря – камешки во рту,
соль на губах и в горле синий ком,
пока раскачивается на ветру
картонный дом.
Вот жизнь на Марсе – нелегка, но сносна,
поют по-марсиански соловьи
голубоглазым, золотоволосым
из Брэдбери.
Вот городская жизнь – вечерний парк,
обрывки речи, Блок: «В глубоких сумер…» –
и ты еще живешь, но тихо так,
как будто умер,
но всё же дышишь. Видишь, на юру
блестит луна, как в озере блесна,
мир движется вокруг, а на миру –
и смерть красна.
КРУГ
Далеко глядим, только мы с тобой –
и ловец и зверь, и земля и плуг.
Слышишь, время ходит по кольцевой,
умещая жизнь в идеальный круг?
Мы давно живем у большой реки,
вдалеке от наших лесных начал.
Видишь, птицы в белом, как моряки,
обживают порт и речной причал?
А в округе негде упасть звезде,
из тумана выскальзывает флагшток,
мы почти под завязку в сырой воде,
по трубу, по чадящий ее вершок.
И пока расплывается вширь туман,
цвета соли и привкуса табака,
бесполезно глазами искать стоп-кран,
вспоминая, как кнопка его гладка.
Облака привязаны к облакам,
крепко взяты берегом в оборот,
нынче некуда двинуться морякам,
будто был в одночасье распущен флот.
Будто снилась всякая дребедень:
дом, стальными антеннами шевеля,
словно из лесу выскочивший олень,
убегал в малахитовые поля,
но не слился с местностью камуфляж –
желтизна черепицы, огонь в окне
с головой выдавали: не наш! не наш! –
так, что не по себе становилось мне.
И впиваясь в красочные бока,
в штукатурку кожи его больной,
я просила, чтобы горынь-река
повернулась тыльною стороной,
где в ладони протянутой нам руки
оседают лебеди на мели –
припортованы бывшие моряки,
пришвартованы сплывшие корабли.
ОТРАЖЕНИЕ
Уткнуться лбом в попутчицу в стекле,
на чьем лице читается погибель
от безысходной жалости к себе,
той самой, что описывал Нагибин
преклонных лет, когда писал «Дневник»,
там есть пассаж такой: звенит трамвайчик,
а в нем к стеклу, нет, сам к себе приник
красивый и не старящийся мальчик.
Ему кивают грузные дома,
щекочет ноздри сладковатый запах,
и тополя, как всадники Дюма,
покачивают перьями на шляпах.
Но, чу, зеленоглазая, на лапах
приподнялась в конце туннеля тьма.
Куда ушла душа твоя, Ахилл,
всю жизнь проведший в круговом движенье?
Недаром тот, кого ты так любил,
нахмурился в зеркальном отторжении.
Иль это я – неон, стекло, акрил?
Пусть под завязку полнится трамвай
червоно-рутным голосом Ротару,
пока любви настоянный токай
нас наполняет, словно стеклотару.
Так нам, прозрачным, хочется огня
и урожая солнечного сорта,
что дробь и дрожь железного коня
почти отделены от натюрморта,
и той, что горько смотрит на меня,
мне хочется сказать, какого чёрта!
Прочь, ахмадулинские девочки Дега!
Всё без толку, хоть умирай прилюдно.
И вычтя из портрета облака,
я узнаю в попутчице врага,
что очевидно – столь, сколь обоюдно.
Летят к чертям, в глухой чертог депо
в искрящихся объятиях трамвая
рекламы «Спортлото» и «Шапито»,
початая бутылочка токая,
и я – нектар бесценный проливая
на траченное временем пальто.