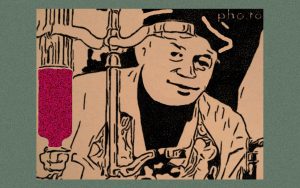Король Бродвея
1.
Когда-то в городе Бердичеве был шикарный Бродвей. Это было в середине хрущёвских лет, и это было незабываемое время.
По улицам еще ездили «Победы» и трофейные «Опели». Да мы еще донашивали крепдешин сороковых годов. Ещё были молоды фронтовики. Они убивали публику шириной своих штанин.
Музыканты разучивали рок-н-ролл. К брюкам-дудочкам еще не привыкли, но расстреливать за них уже не требовали. Народ загадочным шёпотом говорил про секс. Что это такое, никто не знал. Но все уже краснели. Некоторые даже беременели.
Жизнь кипела.
Бродвей находился на улице Либкнехта. Это был смачнейший кусочек вечернего пейзажа, который начинался от башни. В детстве я думал, что эта башня зовётся Пизанской. Потом оказалось, что она водонапорная.
К семи вечера Бродвей заполнялся публикой. Этих людей нельзя было назвать прохожими. Они по улице – не проходили. Они по ней – фланировали. С расстановочкой, с бонбончиком-с!
Представьте себе этот кайф, и вы поймёте, каким – в тысячу раз лучше! – он был тогда.
Вы медленно фланируете по Бродвею. Вы одеты в самое лучшее. Бродвей не терпит случайных пиджаков. А ваши туфли не просто начищены. Они – сверкают. Если они не будут сверкать, завтра весь город будет называть вас паршивым шлепером. Перед вами закроются двери лучших домов Бердичева. И вы поймёте, что Бродвей – не туалет.
Знакомые лица. Здрас-сьте, и как вы поживаете? А вы? Но мы ж за это первые спросили! А мы такие скромные, шо лучше мы ответим последними!
Чья-то улыбка. И чьи-то загадочные глаза из-под потрясающих ресниц…
Я выходил на Бродвей с бабушкой и дедушкой. Мне было пять лет, но я был уже тот мальчик. Каждый вечер я в кого-то влюблялся. В кого – не помню. Их было много, и я страстно любил их всех.
Мы проплывали мимо церкви. Мимо ресторана. Мимо гастронома. Потом начинался каштановый бульвар, и бывший костёл, где когда-то венчался Оноре де Бальзак.
Наконец, мы выплывали на пятачок перед кино «Фрунзе». Над афишами гуляли лампочки: синие, жёлтые, красные, зелёные. Это был праздник, но хотелось, чтобы он стал еще больше. И это исполнялось. У кино стояла голубая деревянная будка. В ней сидел король Бродвея. Это был газиропщик Изя.
2.
Это был феноменальный человек. Когда я вспоминаю про него, я ударяюсь в лирику. И тогда я спрашиваю:
– Мошкара из не-Бердичева! Что вы можете знать про газиропку, если вы никогда не знали Изю! Я перевожу дыхание, и я начинаю вам объяснять. Настоящая газиропка – это совсем не та бзыц-бзыц-параша, которая за три копейки наливалась из автомата.
Настоящая газиропка начинается с мокрой клеёнки, по которой жадно ползают осы. Пальцы маэстро касаются вентиля-бабочки, и в стакан, который называется стаканчик, тонко льётся сироп. Хоп! – и стаканчик уже под газированной струёй, как артист под овацией публики. Хоп! – и цымис, который получился, вы можете попробовать лично.
Не падайте от счастья. Обморок от счастья – это все равно обморок. Лучше сделать заказ на еще один стаканчик. Газировка была еще в двух местах Бродвея. Напротив башни и в гастрономе. Но только у Изи она имела название «газиропка» или даже «газиропочка». Изя умел её делать.
3.
Он был маленький человек с большой лысиной, приплюснутым носом и смешливыми глазами, которые видели клиента насквозь. Он знал про нас все. Мы про него – только обрывки сплетен.
Якобы Изя делает миллионы с недолитого сиропа.
Якобы Изя имеет не дом, а виллу, где-то за бульваром. Никто её не видел, но знали про неё все.
Якобы Изя купил на имя тёщи своего племянника автомобиль «Волга». Народ спорил, как Изя это провернул. Народ знал все тонкости. Не было только самого автомобиля. Изя ходил пешком. Водительских прав он не имел. Он, кажется, вообще не знал, что это такое. Говорили также, что Изю – взяли. Шмон идёт с большим тарарамом. Потные грузчики уже грузят золото.
Эту новость город обсуждал каждое лето. Народ бежал на Бродвей смотреть: правда или нет. Но это опять была неправда. Может, Изя делал сиропные миллионы. Может, не делал. Это осталось тайной 20 века.
Слухов про Изю было больше, чем про Хрущёва. Это не мешало народу любить Изю. У его будки всегда была очередь.
– Нам, это самое, с двойным сиропчиком, – говорил клиент.
– Что такое? – спрашивал Изя. – Имеем событие? Так почему не с тройным?
Изя наливал три с тройным, но брал как за три с двойным.
Праздник так праздник. Изя уважал чужие праздники. Своих у него, похоже, было мало.
Его газиропка роскошно пенилась и роскошно лилась. Если она звалась клубничной, значит, у неё был-таки вкус клубники, а не маргарина. Вишнёвая газиропка пахла-таки вишнями. У других так не получалось. У других всякая вода пахла одинаково: никак. Они были газировщиками, но не газиропщиками.
А очередь к Изе тоже была особенной. Эта очередь всегда рассказывала анекдоты и всегда смеялась. Изя подкидывал хохмочку, и она шла гулять по Бродвею. От Изи, говорил народ.
Бродвей начинался в Нью-Йорке и заканчивался в Бердичеве. Там, где стояла Изина будка. За ней тоже был бульвар и продолжалась улица. Но там был уже не Бродвей. Там опять была улица Либкнехта. И фонари там горели уже совсем не так.
Прошло еще лет десять, и будки не стало. Изя тоже куда-то пропал. То ли ушёл на пенсию, то ли поехал в Эрец. Бродвей теперь другой, и короли там другие.
Но моего Бродвея там больше нет. Того Бродвея, который начинался в Нью-Йорке и заканчивался в Бердичеве, и где королём был Изя-газиропщик…
Этот
ужасный Ося!
1.
Был такой Ося.
Он и теперь есть.
Но в Берлине.
А тогда он был – в Таллинне. Среднего роста, поджарый, с крепкими плечами. Вероятно, ему было тогда чуть за тридцать. Как и Довлатову. Но в его черных, коротко стриженных волосах уже была отчётливо заметна проседь. Это делало его импозантным. Ося был красив. Спортивен. Одевался модерно, с намёком на интеллект. Женщины к таким – неравнодушны. Хотя я не помню, чтобы о нем говорили, как о ловеласе.
Довлатов говорил мне, что в юности он был боксёром. Я не верил. Не верил, что он способен кого-то ударить. Даже на ринге. Хотя комплекция у него была – как у громилы.
А про Осю Довлатов говорил, что тот раньше был хорошим боксёром. То ли в Ташкенте, то ли в Баку.
В это я – верил.
Когда Ося смотрел на меня, он, казалось, ощупывал меня взглядом. Профессионально. С намёком: куда бы влепить кулаком. Так, чтобы я лёг и не встал.
Меня воротило от этого взгляда. У меня была своя мечта: влепить Осе графином по голове. А потом выбросить его с шестого этажа. Там, где была редакция.
Он меня – презирал.
Я его – ненавидел.
В Таллинне он был единственным, кого я ненавидел.
Там были разные люди. В том числе неприятные. Но я не удостаивал их ненавистью. Нет смысла ненавидеть мелкоту.
А ненавидеть Осю – был смысл. Он был, конечно, не мелкота.
Но как он был ироничен! О, как он был ироничен! Он входил в наш кабинет и спрашивал у меня:
– А где люди?
– А я что, не человек?! – отвечал я.
– Рано, мальчик, рано! – благодетельно говорил Ося. – Ты пока не дошёл до звания человека. Ты сопля, размазанная по стенке. Когда ты станешь человеком?
– Когда ты отсюда исчезнешь!
– А в моем присутствии – никак? – удивлялся Ося.
Он ухмылялся и садился на диван. Ждать, пока придут люди. А я утыкался носом в репортаж. Перед моими глазами плыл туман. Я не мог написать – ни строчки.
Мне было 20 лет. Я был совсем неплохим репортёром. Из командировок я привозил по 7-10 репортажей. На свои гонорары я был прекрасно одет! Красный твидовый пиджак, зелёные брюки, белые носки и шоколадные туфли на платформе. Шик! Блеск! Безвкусица – это признак тяжёлой провинциальности.
А кто был Ося? Хотел бы я знать! Я не мог понять, где он работает? Кажется, нигде. Он подрабатывал как фоторепортёр. Но не часто. На такие гонорары было – не прожить. Я думал: может он контрабандист? По ночам переплывает Финский залив, закупает в Хельсинки духи и колготки, а потом плывёт назад. Почему бы ему не утонуть по дороге?
Однажды мне под утро приснился сон: как Ося тонет в заливе. Буль-буль! Бу-уль-бу-у-уль! И нету Оси.
Это был приятный сон. Я проснулся в прекрасном настроении! Но у дверей редакции встретил живого Осю. Он озабоченно спросил:
– А как теперь в Бердичеве? Я слышал, там теперь все мужчины носят белые зимние пальто с красными воротничками. Это правда?
– Не-ет! – прохрипел я.
– Правда, правда! – сказал Ося. – Это знает весь мир! Продай мне твой роскошный красный пиджак. У меня дома кончились половые тряпки.
Я не нашёл, что ответить. Когда я видел Осю, моё остроумие – умирало.
Теперь вы можете понять, как я его ненавидел! О, как!
2.
Наша завотделом Гати смотрела на Осю с недоумением. Ни хорошо, ни плохо. Но она давала ему заказы на снимки. Иногда. Он приносил хорошие фотографии. Гати придирчиво их рассматривала. Пожимала плечами, но, как правило, брала. Кажется, она не очень-то признавала его талант фоторепортёра. Она была не капризна, но ценила в людях состоятельность характера. С умилением подозреваю, что в Осе она это качество – не находила. Единственным кумиром Гати был её муж. Довлатова она ценила за ум и мастерство репортёра. Меня она… ну, может и ценила. По праздникам. Не чаще. Но я трепетно надеялся, что Осю она терпеть не может. Это была сладкая надежда!
Стол Довлатова был в трёх метрах от моего. Приходил Ося с фотокофером, и Довлатов говорил:
– А-а-а!
Я искал подтекст этого «А-а-а!» и не находил. Ося подсаживался к Довлатову. Они начинали говорить черт знает о чем. Они были приятелями. Ни близкими, ни дальними. Посередине. Меня сердило, что Сергей так мило беседует с этим оц-тоц-перевертоц. Так я называл Осю: скромно и по-бердичевски.
Иногда они шли в бар на первом этаже – продолжить беседу. Однажды я взял там чай, пару бутербродов и подсел к ним за столик. Рядом с Осей. Я стал есть бутерброд.
– Не подавись! – ласково прошептал Ося мне на ухо.
И что вы думаете?! Я таки чуть не подавился! Они говорили о литературе. Я слушал и пробовал понять суть. Но так и не понял. В тот раз говорил, в основном, Ося. А Довлатов то поднимал брови, то опускал. Я был уверен, что Довлатов и сам не понимает Осин монолог. Но Сергей, как назло, стал кивать. С пониманием. Я не мог это стерпеть. Я доел бутерброды и ушёл. Гордо! Никем не понятый, сам ничего не понявший.
Потом в кабинет вернулся Довлатов. Он остановился посреди кабинета – огромный, в сером твидовом пиджаке. Довлатов не был моим кумиром. Но – я обожал его. Больше чем кумира! Он таким и остался для меня: единственным человеком, которого я по-настоящему люблю. Даже маму я так не люблю, как его.
Он стоял посреди кабинета. Он задумчиво сказал:
– Бывают разные люди. Умные, серые и дураки. Но от этого Оси можно забеременеть!
– Такой тупой? – с надеждой спросил я.
– Кто? – не понял Довлатов. – Я?
– Нет! Ося, конечно!
– Не тупой, – сказал Довлатов.
Больше ничего не сказал. Я был огорчён. Я так хотел, чтобы Сергей назвал его тупым!
Я тяжело вздохнул. Спустился в кассу и получил деньги. Вспомнил про Осю – и неожиданно поехал в Kaubamaja (Дом торговли). Там резко купил себе черный эстонский пуловер и светлые финские брюки. А кроме того – черные носки. Там же и переоделся. Свой красный пиджак и зелёные брюки я отнёс в родную мореходку. Там встретил одного салагу из моей бывшей роты. Это был курсант первого курса. Белорус, из глухой деревни. Тихий – как штилевое море.
– Купи гражданку! – сказал я. – Пиджак и брюки, почти новые. Приедешь в деревню – все бабы в обморок упадут!
– Упадут, – кротко согласился он. – Подумают, что я тут учусь не на моряка, а на клоуна!
Ни за что не хотел купить! Очень стеснялся. Но я все-таки всучил ему пиджак и брюки. Бесплатно. Потом он продал это какому-то хиппи из Ленинграда: за 5 рублей. Почти новые вещи, которые мне обошлись в 70 рублей!
Ну?!
Надо после этого жить?!
Я был глубоко ошарашен. Признать себя дураком я, конечно, не мог. Молод был. Поэтому я во всем обвинил антисемитов и Осю. Который, в свою очередь, антисемитом быть не мог, потому что был – семитом.
Теперь вы уже точно поняли – как я его ненавидел!
О, как!
Не за то, что он – семит. А за то, что он – хуже антисемита!
3.
Но наша зав Гати готовила мне подарок. Она чувствовала, как я люблю Осю. И видела, как Ося любит меня. Она решила нас – помирить. У неё были такие странности: мирить тех, кто родился не там и не тогда.
Она решила послать нас обоих в командировку. В деревню: то ли под Раквере, то ли под Вильянди. Она сказала коротко: «Найдите там что-то интересное».
Я часто так работал: ехал – куда, не знаю сам. По методу Довлатова. Он говорил так:
– Боря, написать репортаж – это пустяк. А найти тему для репортажа – это меньше, чем пустяк. Люди ходят и ничего не замечают. А ты – ходи и замечай. Идёшь по улице Пикк, трое рабочих роют яму. Спроси у них: ребята, что вы тут роете? А зачем? А почему? Они тебе объяснят. Выпей с ними бутылку пива, напиши репортаж, и 15 рублей у тебя в кармане! Понял? Так и делай!
Я так и делал.
Но Ося мне устроил ТУ командировку! Это была не командировка. Это был ад!
Ося поставил мне условие:
– В 6.30 утра ты должен заехать за мной на такси и отвезти моё тело на вокзал.
– На такси?! – закричал я. – Кто ты такой? Фидель Кастро? Почему ты сам не можешь приехать на вокзал?!
– Я старый, больной человек, – спокойно объяснил Ося. – А ты – салабон из Бердичева. Я тихий, кроткий, печальный. А ты юный, наглый фраер. Я за фото в газете получу 5 рублей, а ты за репортаж – 25 рублей. Ну, кто за кем должен заезжать?
– А почему ты на трамвае не можешь приехать?! За 3 копейки?
– Потому что я люблю такси! – ответил Ося.
Хорошо. Я стиснул зубы. Я встал на рассвете. Час искал такси. Приехал к нему ровно в 6.30. Сначала звонил в его дверь. Потом барабанил по ней кулаком. Он открыл дверь, зевнул и сказал, что еще спит, но через пятнадцать минут – выйдет .
Он вышел через 30 минут. Я не мог с ним разговаривать: меня трясло. Мы поехали на вокзал.
В совхозе нам сказали, что у них работают лётчики-опылители. Мы поехали к лётчикам на поле. Там стоял самолёт АН-2, известный под названием «кукурузник». Я хотел начать разговор с лётчиком, но интервью стал брать почему-то Ося. Я слушал и записывал в блокнот. Я не мог раскрыть рот: Ося это успевал раньше. Как вам нравится этот способ интервью? Когда репортёр молчит, а фотограф – задаёт вопросы! Это было самое черное интервью в моей жизни!
Самолёт взлетел. За ним потянулся шлейф химикатов. Ветер сдувал их в нашу сторону. Ося ладонью закрыл рот и нос. Но мне успел сказать:
– Открой рот пошире. Это не химикаты. Это – витамины.
Я до сих пор помню эту командировку! Больше с ним в паре я никогда не работал. У меня не было на это сил!
4.
Шли годы. Довлатов был уже в Америке. Осю я старался не видеть. Я печатал рассказы в журналах. Писал скетчи для эстонских артистов. Делал газетные интервью. Ося то мелькал, то исчезал. Однажды, в Доме печати, он с неожиданным интересом спросил:
– Я слышал, ты стал писателем?
– Нет.
– Это не ты печатаешь рассказы?
– Нет. Не я.
– Странно, – сказал Ося. – А мне говорили, что какой-то Боря печатает паршивые рассказы, которые противно читать! Значит, это не ты. Спасибо, ты меня успокоил. А то я очень за тебя переживал! Я думал, что этот графоман Боря и ты – это одно лицо!
Он щедро улыбнулся. Я тоже улыбнулся – но кисло.
В Таллинне начала выходить еврейская газета. Первое время она мне была скучна, её тогда делали не профессионалы, а случайные люди. Но вдруг она изменилась: к лучшему – её редактором стал Ося.
Я передал ему, через одного знакомого, пять своих коротких рассказов. Ждал, когда их напечатают. Через три месяца я позвонил Осе:
– Ты читал мои рассказы?
– Да.
– Ты будешь их печатать?
– Наверное. Может быть.
– Когда?
– Жди, – сказал Ося тёплым голосом.
Я знал, что такое тёплый голос Оси, когда речь идёт обо мне. Я понял, что он мои рассказа НИКОГДА не напечатает. Я был прав. Он их так и не напечатал.
Но и Ося был прав. Это были слабые рассказы.
5.
Прошло десять лет. В Штутгарте мне позвонила знакомая эмигрантка:
– Я была на еврейском семинаре, встретила там твоего таллиннского коллегу. Его звать Ося. Он говорил о тебе очень тепло. Сказал, что всегда любил тебя. Просил передать тебе его номер телефона в Берлине.
Я записал номер. Конечно, я не хотел звонить Осе! Но позвонил. Он сказал, что хотел бы почитать мои рассказы. Конечно, я не хотел посылать ему свои рассказы! Но послал. Это был свежий номер тель-авивской «Роман-газеты» с моими десятью рассказами.
На другой день, поздно вечером, он позвонил мне. Сказал, что прочитал эти рассказы. Комплиментов не говорил. Хотя один комплимент был: «При чтении твоих рассказов я ни разу не заскучал». Он говорил, а я слушал впол-уха. Сначала. Но вдруг я – стал слушать. Я не верил своим ушам! Ося говорил о моих рассказах такие точные слова, которых я ни разу ни от кого не слышал! Он меня понял – как никто другой. Мой стиль. Мою авторскую психологию. Это были чёткие, выверенные слова. Я понял, наконец, почему Довлатов охотно с ним беседовал. Ося сказал, что готов помочь издать мою книгу в России, что у него есть контакты. Кроме того, он готов написать рецензию о моих рассказах. Я понял, что он и в прежние годы ждал от меня только одного: уровня. Мы перестали быть врагами.
В ту ночь я долго не мог уснуть…