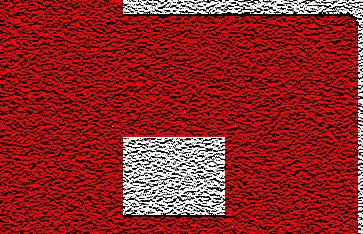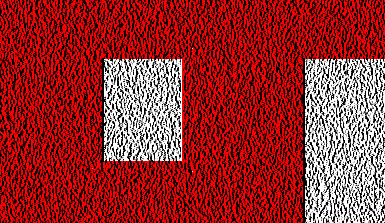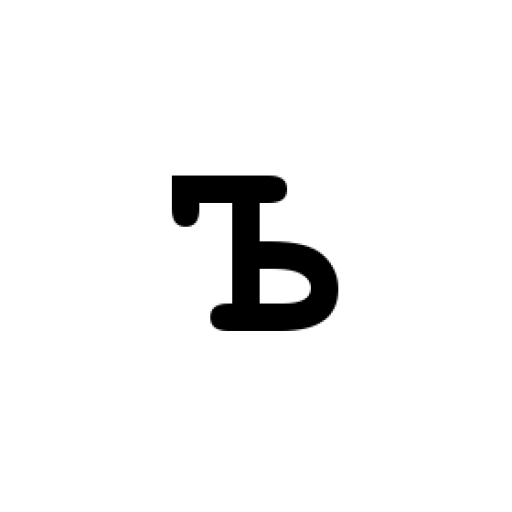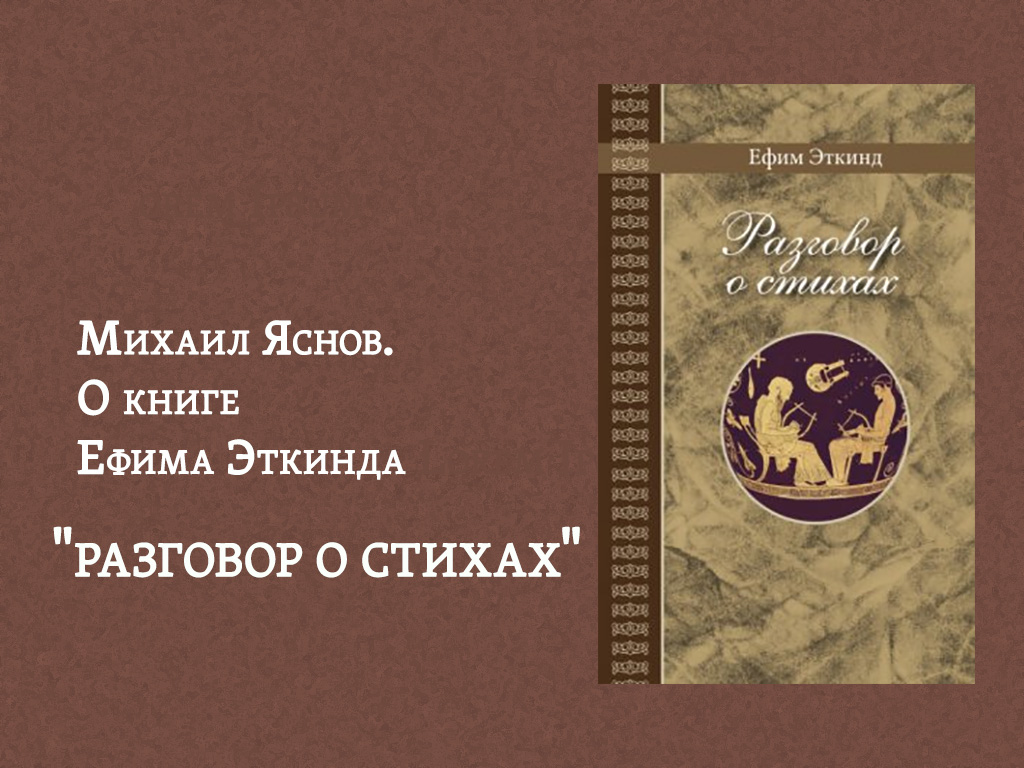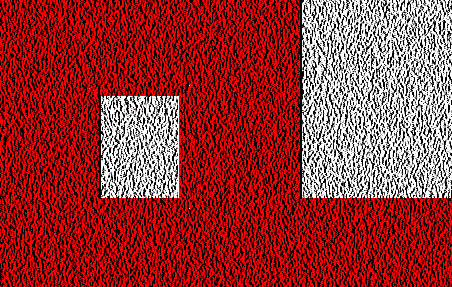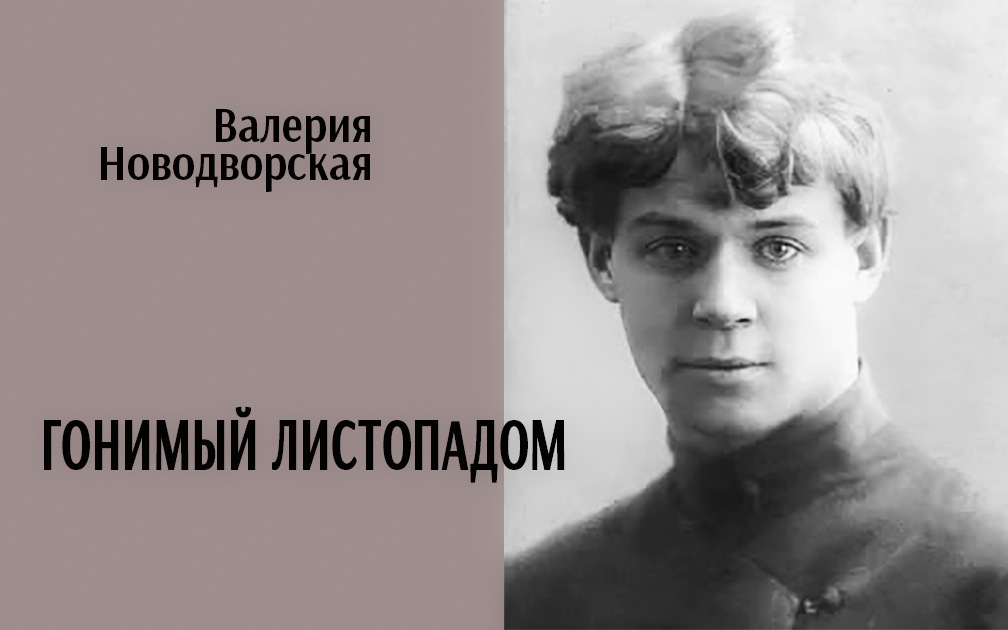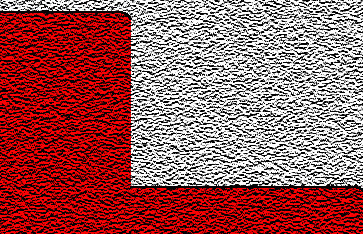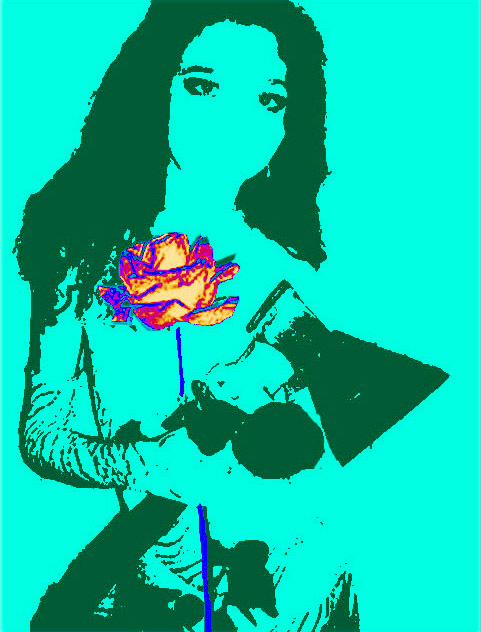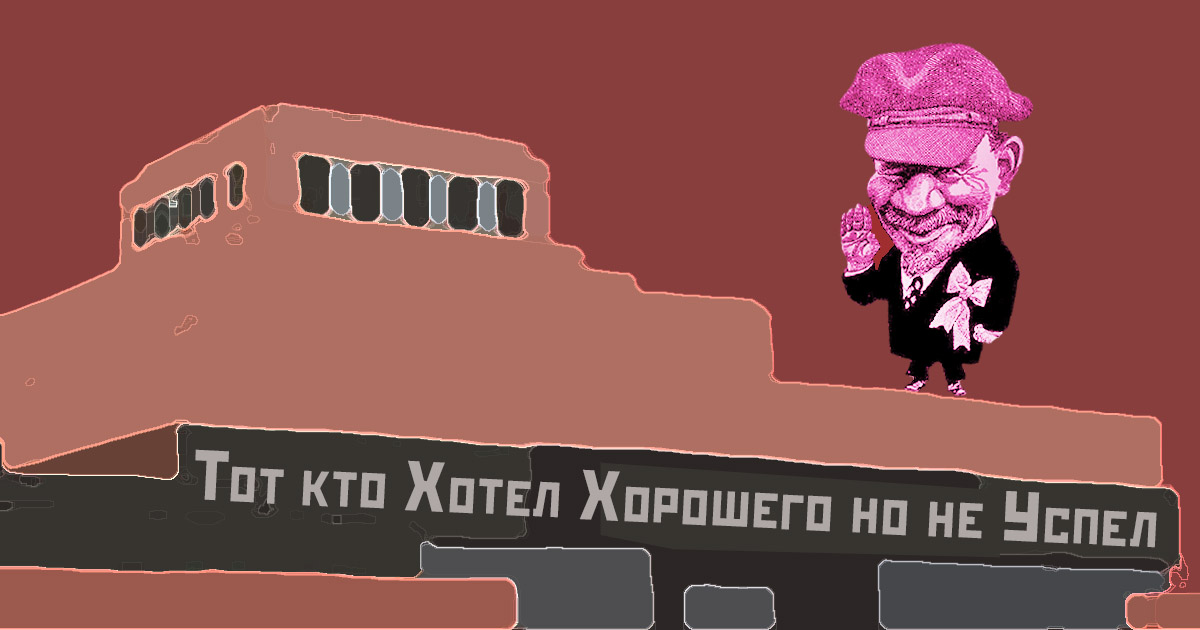Обретённое время
(Фрагмент из романа)
Да и как вообще опись наблюдений может претендовать на какую-то ценность, — ведь только за мелочами, отмечаемыми ею, таится действительность (величие в далёком шуме аэроплана, в силуэте колокольни Св. Иларии, прошлое во вкусе печенья и т. п.), — сами по себе они ничего не значат, пока мы не извлечём из них реальность.
Мало-помалу сохранённая памятью цепь неточных выражений, в которых не осталось ничего от реально пережитого, начинает воздействовать на нашу мысль, жизнь, действительность, — воссозданием этой лжи занимается так называемое искусство «пережитого», — простоватое, как лишённая красоты жизнь, бессмысленный повтор того, что видели глаза, подметил ум, такой скучный и пустой, что поневоле спрашиваешь себя: где же автор, посвятивший себя этому занятию, нашёл ту искру, что запустила мотор и двинула вперёд его дело? В отличие от того, что г-н де Норпуа называл дилетантской игрой, величие настоящего искусства подразумевает обретение, воссоздание и познание реальности, — далёкой от той, в которой мы живём, все более и более устраняясь, когда наше условное, подменяющее ее познание становится медлительней, герметичней, — реальности, которую можем так и не познать, умерев, реальности, которая и есть наша жизнь. Настоящая жизнь, в конце концов открытая и прояснённая, следовательно, единственно реально прожитая жизнь — это литература. В определенном смысле эта жизнь непреходяща, присуща всем людям, не только художнику, но она не попадает в их поле зрения, потому что другие люди не пытаются ее прояснить. И их прошлое завалено бесчисленными общими местами, всегда бессмысленными, потому что ум не раскрыл их. Наша жизнь — это и жизнь других; ибо стиль для писателя, подобно цвету для живописца, это дело не столько техники, сколько видения. Стиль — это откровение (которое невозможно передать через прямое и осознанное воздействие) о качественной разнице в проявлении мира, разнице, которая осталась бы вечным секретом
каждого человека, если бы не существовало искусства. Только посредством искусства мы можем превзойти свои пределы, узнать, что увидели в мире другие, — в отличном мире, виды которого остались бы для нас так же неведомы, как лунный пейзаж. Благодаря искусству, вместо того чтобы наблюдать один мир, мы видим, как он множится, и столько, сколько было самобытных художников, оказывается в нашем распоряжении миров, еще сильней разнящихся друг от друга, чем миры, летящие во Вселенной, — и много веков спустя, после того как потухнет звезда, будь то Рембрандт или Вермеер, до нас еще доносятся ее неповторимые лучи.
Работа художника, то есть попытка провидеть за материей, опытом, словами нечто иное, прямо противоположна той, которую ежесекундно в течение нашей жизни, стоит нам отвлечься от себя, совершают себялюбие, страсть, интеллект и привычка, когда накапливают поверх подлинных впечатлений, полностью их перекрывая, перечни и практические задачи, ошибочно именуемые нами жизнью. В целом это запутанное искусство — единственно живое искусство. Только оно выявляет в других и показывает себе самому личную жизнь, не поддающуюся «наблюдению», видимые проявления которой подлежат переводу, а зачастую и прочтению наоборот, трудоёмкой расшифровке. И работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожена искусством, пустившимся в обратный путь, вернувшимся к глубинам, где погребена неведомая реальность, которую искусство заставит нас найти. Какой соблазн — воссоздать подлинную жизнь, освежить впечатления! Но это требует всяческой отваги, и даже отваги чувств. Прежде всего надо расправиться с иллюзиями, которыми мы больше всего дорожим, оставить веру в объективность того, что сотворили, и вместо того чтобы в сотый раз баюкать себя словами «Она была так хороша», прочесть наоборот: «Целуя ее, я получил удовольствие». Конечно, испытанное мною в часы любви испытывают все. И это так, но чувства подобны негативам, они кажутся черными, пока мы не поднесём их к лампе, то есть их следует смотреть наизнанку; чувство неведомо нам, пока мы не довели его до ума. Только тогда, когда ум разъяснил его, интеллектуализовал, мы — с таким трудом — различим облик того, что чувствовали. И так же ясно я понял, что страдание, которое я испытал впервые с Жильбертой, страдание оттого, что любовь может быть никак не связана с внушившим ее существом, — это страдание благотворно. По крайней мере, как метод (ибо наша жизнь слишком коротка, и только в страданиях мысли, словно возмутившись от вечных и изменчивых колебаний, показывают нам, — как во время бури высокое окно, откуда мы на нее взираем, — всю эту упорядоченную законами природы необъятность, тогда как из другого окна мы не разглядели бы ее, ибо в блаженном покое она не видна; может быть, только нескольким величайшим гениям это волнение доступно постоянно, и им не нужны потрясения скорби; но еще не очевидно, что, созерцая широкую и размеренную поступь их жизнеутверждающих произведений, мы, отталкиваясь от этой радости, должны думать об их жизни как о чем-то приятном, — вполне возможно, что, напротив, они прожили скорбную жизнь). Самое главное заключается в том, что, если наша любовь — не всего лишь любовь к Жильберте (что приносит столько страданий), или и любовь к Альбертине, но что любовь — часть нашей души, которая вековечнее разных «я», умиравших одно за другим с эгоистическим желанием сохранить эту любовь; и эта долька души, сколько бы зла (зла, впрочем, полезного) она нам ни причинила, должна оторвать себя от конкретных существ, чтобы восполнить целое и вернуть любовь, понимание этой любви — миру, универсальному духу, а не той или иной женщине, с которыми мы хотели бы слиться.
Мне нужно было заново наполнить смыслом малейшие знаки (Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Блок и т. д.), окружавшие меня, потому что за привычкой он стал неразличим. Ибо, как только мы обретаем действительность, чтобы выразить и сохранить ее, мы устраняем все наносное, что так скоро накапливает привычка. Прежде всего я отбросил бы слова, произносимые скорее губами, чем разумом, все эти шуточки, всплывшие средь разговора, которые долго еще потом мы повторяем про себя, — эти машинальные слова, заполняющие наше сознание обманом, вызывают при чтении писателя, унизившегося до их записи, лёгкую улыбку, гримаску, и так бывает всегда, в частности, с изречениями Сент-Бёва; тогда как настоящие книги должны быть порождением вовсе не света дня и болтовни, но темноты и умолчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг этих истин, которые мы постигли внутри себя, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства, но это — только следы преодолённого сумрака и работающий столь же точно, как альтиметр, показатель глубины произведения. (Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой, как возомнили вдохновлённые материализмом романисты; они не способны оказаться по ту сторону явлений, и все их благородные намерения, — подобно добродетельным тирадам, привычным у некоторых лиц, неспособных на малейший добрый поступок, — не мешают нам заметить, что у них не хватает силы духа даже на то, чтоб избавиться от формальных банальностей, усвоенных имитацией.)
Что касается истин, добытых интеллектом, — даже у самых высоких умов, — в залитом светом просторе, их ценность может быть велика; но их контуры суше и площе, и они неглубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были преодолены глубины; потому что они не были воссозданы. Часто писатели с наступлением определенного возраста, когда их больше не посещают эти волшебные истины, пишут только силой рассудка, и последний набирает все большую и большую мощь; потому-то их зрелые книги сильнее, чем прежние, — но в них нет уже прежнего бархата.
Тем не менее я понимал, что этими истинами, извлечёнными ясным взором разума непосредственно из действительности, не должно пренебрегать, потому что они могли бы огранить — хотя и не таким чистым веществом, но все же веществом, проникнутым духом, — впечатления, сообщённые нам вневременной эссенцией, общей ощущениям прошлого и настоящего; последние драгоценней, но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено лишь из них. Я чувствовал, как они толпами бегут ко мне, готовые к делу, — истины, относящиеся к страстям, характерам, нравам. Это понимание принесло мне радость; однако мне вспомнилось, что только одну из них я открыл в страдании, тогда как остальные — в довольно посредственных удовольствиях.
Каждый из тех, кто причиняет страдания, может быть причислен нами к разряду божеств; они — лишь священный отсвет и последняя ступень на пути к небесам, так что, созерцая божественность (Идею), наше страдание тотчас сменяется радостью. Искусство жизни заключено в служении тем, кто причинил нам
боль, служении им, как ступеням, позволяющим приблизиться к их божественной сущности и радостно населить свою жизнь божествами.
И тогда меня осенило новое озарение, хотя, конечно, не такое лучистое, как только что показавшее, что произведение искусства — единственное средство обрести утраченное Время. Я понял, что материал для литературного произведения содержится в моей прошедшей жизни; я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в лени, в нежности и скорби, что я запасся им, догадываясь о его предназначении не более (равно о том, что его достанет до этих дней), чем семя, запасшее питательные вещества, которые вскормят растение. Подобно семени, я умру, едва пробьётся росток, и я понял, что, и не подозревая о том, жил для него, даже тогда, когда думал, что в моей жизни навряд ли состоятся когда-нибудь книги, которые я хотел написать и из-за которых некогда усаживался за стол и не находил темы. Так что вся моя жизнь, вплоть до этого дня, проходила под знаком Призвания — и вместе с тем в какой-то мере это было не так. В том смысле, что литература не играла в моей жизни никакой роли. Но жизнь, воспоминания о ее печалях и радостях — образовали запас, схожий в чем-то с эндоспермом в завязи растения, из которого последняя черпает питание, чтобы превратиться в семя, и по которой никак еще не скажешь, что в ней развивается эмбрион растения, тогда как он стал уже средоточием биохимических и дыхательных процессов, скрытых, но очень активных. Так что вся моя жизнь зависела от того, что приведёт к ее вызреванию; но тот, кто напитается ею, так и не узнает, — как неизвестно тем, кто поглощает питательные семена, — что насыщенные содержанием вещества были созданы для питания, сперва напитав семя и приведя к его созреванию.
В такой области одни и те же сопоставления оказываются ложными, если из них исходить, и истинными, если к ним прийти в конечном итоге. Литератор завидует живописцу, ему тоже хотелось бы делать эскизы, наброски; но если он пойдёт на это, он пропал. Когда он пишет, каждый жест его персонажей, — будь то тик или акцент, — поставляет вдохновению память, а под одним именем вымышленного персонажа кроются чуть ли не шестьдесят реальных, — один запечатлелся из-за гримасы, второй — из-за монокля, третий из-за гневливости, четвёртый из-за властного движения руки, и т. д. И тогда писателю становится ясно, что если осознанным и целенаправленным образом его мечта — стать художником — неосуществима, то все же она реализовалась в памяти, ибо в ней, сам о том не подозревая, писатель заполнил свой этюдник. Еще задолго до того, как он понял, что стал писателем, движимый своим инстинктом, он часто упускал из внимания предметы, отмечаемые другими, так что его даже порицали за рассеянность, и он обвинял себя в неумении слышать и видеть; и в то же время он требовал от глаз и ушей удержать то, что другим казалось ребяческими пустяками: интонацию, с которой сказана фраза, выражение лица и движение плеч, сделанные в определенный момент таким-то человеком, о котором он и не знал, быть может, ничего другого, — прошло много лет, и потому, что эту интонацию он уже слышал, или чувствовал, что может услышать вновь, она оставалась чем-то возобновляемым и длящимся; ибо чувство всеобщего в будущем писателе само отбирает то, что всеобще, что войдёт в произведение искусства. Но люди были внятны ему лишь тогда, — безразлично, в какой степени они были помешаны или глупы, попугаями повторяя слова, которые сказали бы такие же, как они, — когда становились благодаря этому вещунами, глашатаями психологического закона. Он помнит только общее. В виде интонаций, движений лица человеческая жизнь и хранится в нем, даже если людей, которым они принадлежали, он видел лишь в раннем детстве; и когда он позднее возьмётся за произведение, эти движения, характерные для многих, вновь обнаружатся и будут воссозданы столь же точно, как это было бы сделано анатомом, правда, в этом случае ради проявления психологической истины, — только к движению плеч он добавит движение шеи, принадлежащее другому, поскольку в эти движения каждый что-то привнёс.
Вовсе не очевидно, что при создании литературного произведения воображение и чувственность — качества невзаимозаменяемые, что второе нельзя без большого ущерба заменить первым, подобно тому как люди, у которых не переваривает пищу желудок, обременяют этой функцией кишечник. Человек, от рождения чувствительный, но не наделённый богатым воображением, вопреки этому может писать восхитительные романы. Мучения, причинённые ему людьми, усилия, чтобы предупредить их, столкновения между ним и каким-нибудь третьим, бессердечным лицом, — все это могло бы, будучи истолковано интеллектом, послужить основой не только красивой материи, как в том случае, если бы он воображал и изобретал, но еще и освободить эту материю от мечтательности, возможной, если он поглощён собой и счастлив, — материи столь же поразительной для него самого и столь же случайной, как внезапная причуда воображения.
Самые недалёкие люди — своими жестами, речами, невольно выраженными чувствами — являют законы, неразличимые для них самих, но эти законы могут быть подмечены в них художником. Из-за подобных наблюдений пошляки считают, что писатель злобен, и кстати, напрасно, потому что в смешном художник видит что-то прекрасное и всеобщее, и не более вменяет все это в вину наблюдаемому, чем хирург — человеку, поражённому распространённым заболеванием, его болезнь. Так что он насмехается над глупостью меньше, чем кто бы то ни было. Увы, он более несчастлив, нежели злобен: когда речь идёт о его собственных страстях, ему, познавшему их начала, тяжелее освободиться от личных, причиняемых ими страданий.
Когда нас оскорбляет наглец, нам, конечно же, хотелось бы, чтобы он нас превозносил, — а тем более когда обожаемая женщина нам изменяет, чего бы мы не дали, чтобы все было наоборот! Только злость оскорблённого и скорбь отвергнутого тогда остались бы для нас неведомой землёй; ее открытие, мучительное для человека, драгоценно для художника. Так неблагодарные и злобные люди, вопреки своей воле, да и вопреки воле художника, входят в его произведение. Памфлетист невольно приобщает к своей славе заклеймённого им пройдоху. В произведении искусства мы встретим мужчин, которых художник больше всего ненавидел, и, увы, женщин, которых больше всего любил. Они всего лишь позируют писателю, даже в то самое время, когда причиняют ему наибольшие страдания. Когда я любил Альбертину, я прекрасно понимал, что она не любит меня, и я должен был смириться с тем, что она дала мне узнать, что это такое — испытать страдание, любовь, а поначалу счастье.
И когда мы пытаемся извлечь что-то существенное из печали, описать ее, скорее всего, нас может несколько утешить и что-то другое, помимо сказанного; дело в том, что мыслить и писать для писателя — это здоровая и необходимая функция, исполнение которой приносит счастье, как людям плотским упражнения, потение и ванна.
Перевод А.И. Кондратьева