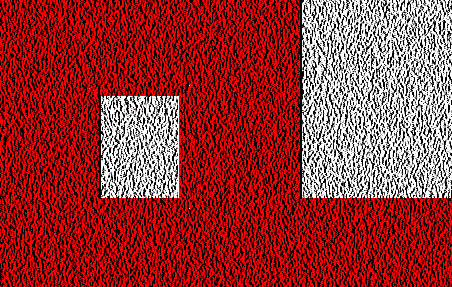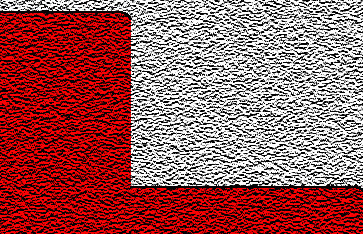Представление о поэте как о неисправимом Доне Джованни — относительно недавнего образца. Подобно многим понятиям, имеющим широкое хождение в массовом сознании, оно, по-видимому, есть побочный продукт промышленной революции, которая, вследствие качественных скачков в концентрации населения и распространении грамотности, породила сам феномен массового сознания. Иными словами, этим образом поэта мы, по-видимому, скорее обязаны читательскому успеху байроновского «Дон Жуана», нежели романическому списку его автора — списку, может быть, ужасающему, но в то время неизвестному публике. К тому же, на каждого Байрона всегда найдётся Вордсворт.
Девятнадцатый век как последняя эпоха социального согласия и сопутствующего ему филистерства создал подавляющее большинство понятий и отношений, которые свойственны нам или движут нами сегодня. В поэзии этот век бесспорно принадлежит Франции: и может быть, экспансивная жестикуляция и экзотические склонности французских романтиков и символистов способствовали утверждению равно дурного мнения о поэте и расхожих плебейских представлений о французах как о записных развратниках. В конечном счёте за этим очернением поэтов скрывается инстинктивное стремление всякого общественного порядка — будь то демократия, автократия, теократия, идиократия или пустократия — скомпрометировать или преуменьшить авторитет поэзии, который не только конкурирует с авторитетом государства, но и ставит под вопрос личность как таковую, ее достижения и душевный покой, ее самоценность. В этом смысле девятнадцатый век верен лишь традициям клуба: когда заходит речь о поэзии, каждый буржуа — Платон.
Однако античность, в общем и целом, отличало более экзальтированное, но и более здравое отношение к поэту. Это было связано как с политеизмом, так и с тем обстоятельством, что поэт служил развлечению публики. Если исключить взаимную пикировку — принадлежность литературного ремесла в любую эпоху, — пренебрежительное обращение с поэтом в античности — редкость. Поэтов чтили как особ, родственных божествам: в общественном сознании они помещались где-то между прорицателем и полубогом. И действительно, как явствует из мифа об Орфее, сами небожители нередко бывали их слушателями.
Этот миф не имеет ничего общего с идеей Платона, а также с особенной ясностью раскрывает свойственные античности представления о душевной цельности поэта. Орфей отнюдь не Дон Джованни. Он полон такого смятения, оплакивая смерть жены своей Эвридики, что его стоны достигают ушей олимпийцев, и они дают ему позволение спуститься в царство мёртвых и привести ее обратно. То, что этот поход (в поэзии подобные нисхождения совершались впоследствии у Гомера, Виргиния и, самое главное, Данте) заканчивается неудачей, лишь говорит о силе чувства поэта к его возлюбленной и, конечно, о постижении древними сущности вины.
Сила этого чувства, как и дальнейшая судьба Орфея (он был растерзан толпой разъярённых менад, отказавшись — из-за принятого им в знак траура по Эвридике обета целомудрия — предать себя их нагим прелестям), свидетельствует о моногамной природе страсти по крайней мере этого поэта. Хотя у древних, в отличие от монотеистов последующих веков, моногамия не была в большом почёте, следует отметить, что они не впадали и в противоположную крайность и верность, как особую добродетель, оставили в удел своему первому поэту. Вообще, в античности единственной женщиной, которая, помимо возлюбленной, присутствовала в повестке дня у поэта, была его Муза.
В современном сознании они почти сливаются: в античности — нет, потому что Муза едва ли была телесна. Дочь Зевса и Мнемозины (богини памяти), она была недоступна для осязания: своё присутствие перед смертными, в особенности поэтом, она обнаруживала лишь голосом: диктуя ему ту или иную строчку. Иными словами, она была голосом языка. Поэзия, как сказал Монтале, — безнадёжно семантическое искусство, и это языку в действительности внимает поэт, это язык на самом деле диктует ему следующую строчку. И, может быть, именно родом языка в греческом (glossa) объясняется женственность Музы.
С теми же символическими последствиями существительное «язык» женского рода в латыни, французском, итальянском, испанском и немецком. Но в английском «язык» — это «оно», в русском – «он». Тем не менее, независимо от грамматического рода языка, привязанность к нему поэта моногамна, ибо поэт, — по крайней мере, по роду своих занятий, — моноглот. Можно было бы даже утверждать, что способность к верности без остатка расходуется на Музу, как подразумевается романической программой поэта в байроновском варианте, — но это было бы справедливо лишь в том случае, если бы каждый был волен в выборе языка. А так язык — это данное, и сведения о том, к какому полушарию мозга относится Муза, представляли бы ценность, только если было бы можно управлять этой частью своего организма.
Поэтому Муза — не альтернатива возлюбленной, но ее предшественница. Вообще, как «старшая женщина», Муза, в девичестве — язык, играет решающую роль в душевном развитии поэта. Она определяет не только его эмоциональный склад, но нередко и выбор самого предмета страсти. Это она делает поэта фанатиком одной идеи, потому что его любовь становится выражением ее монолога. То, что в сердечных делах равносильно упрямству и одержимости, есть, в сущности, диктат Музы. Если так можно выразиться, любовь — переживание всегда монотеистическое.
Этим, конечно же, не преминуло воспользоваться христианство. И все же есть нечто, что действительно связывает религиозного мистика и язычника-сенсуалиста, Джерарда Мэнли Хопкинса и Секста Проперция: эмоциональный абсолютизм. Сила этого эмоционального абсолютизма такова, что временами он бьёт дальше ближней, а нередко и дальней цели. Как правило, ноющий, идиосинкразический, замкнутый на себя, настойчивый голос Музы выводит поэта за пределы как удачных, так и неудачных союзов, за пределы тягчайших бед и пароксизмов счастья — ценой реальности с присутствующей или отсутствующей в ней реальной и отвечающей взаимностью девой. Иными словами, тон повышается ради повышения тона, будто язык влечёт поэта туда, где он возник, где в начале было слово или внятный звук. Отсюда множество распавшихся браков, множество длинных стихотворений, отсюда метафизические пристрастия поэзии, ибо каждое слово хочет вернуться туда, откуда оно пришло, хотя бы как эхо, мать рифмы. Отсюда же — навязанная поэту репутация повесы.
Из всех многочисленных средств одурачивания публики пенки снимает биографический жанр с его пристрастием к копанию в простынях. То, что погубленных дев намного больше, чем бессмертных стихотворений, похоже, никого не останавливает. Последний оплот реализма, жанр этот исходит из той сногсшибательной предпосылки, что искусство можно объяснить жизнью. Следуя этой логике, «Песнь о Роланде» должен был сочинить Синяя борода (ну хотя бы Жиль де Ре), а «Фауста» — Фридрих Прусский, или наоборот.
Объединяет же поэта с его менее вразумительно изъясняющимися собратьями то, что его жизнь — заложник его metier1, а не наоборот. И дело не просто в том, что ему платят за его слова (редко и мало): важно, что и он за них платит (часто страшной ценой). Последнее и создаёт путаницу и плодит биографии, потому что эта плата принимает форму не только безразличия: приемлема и такая валюта, как остракизм, тюрьма, ссылка, забвение, отвращение к себе, неопределённость, раскаяние, безумие и разного рода пагубные пристрастия. Грубо говоря, чтобы продать написанное и чтобы избежать штампов, наш поэт должен постоянно стремиться в такие пределы — умственные, психологические или лексические, — где никто прежде не бывал. Оказавшись там, он обнаруживает, что вокруг действительно нет никого, кроме, может быть, исходного значения слова или того первого внятного звука.
За это с него взимается дань. Чем больше времени он проводит за этим занятием — изречением доныне неизреченного, — тем более идиосинкразическим становится его поведение. Являющиеся ему по ходу дела откровения и прозрения могут вызвать у него либо прилив гордыни, либо — что более вероятно — растущее чувство смирения перед силой, которую он угадывает за этими откровениями и прозрениями. Он также может проникнуться убеждением в том, что язык, самое старое и живучее из всего сущего, сообщает ему, своему глашатаю, равно свою мудрость и знание будущего. Каким бы общительным или смиренным ни был он от природы, это еще больше выбивает его из социального контекста, который отчаянно пытается его востребовать, проводя свой общий знаменатель через его солнечное сплетение.
Это происходит вследствие якобы женственности Музы ( даже если поэт оказывается женщиной). Однако истинная причина заключается в том, что искусство переживает жизнь, и за люмпенским желанием подчинить первое последней скрывается осознание сего неудобоваримого факта. Конечное всегда принимает вечное за бесконечное и возводит на этом свои построения. В этом, разумеется, виновато вечное, потому что оно не может время от времени не вести себя как конечное. Всякий поэт, будь он последний женоненавистник или мизантроп, когда-нибудь разражается потоком любовной лирики, хотя бы в знак принадлежности к цеху или в качестве упражнения. Это даёт достаточный повод к научным изысканиям, толкованию текста, фрейдистским интерпретациям и бог знает чему еще. Общий ход рассуждения таков: женственность Музы предполагает мужественность поэта. Мужественность поэта предполагает женственность возлюбленной. Эрго: возлюбленная является Музой или может таковой называться. Другое эрго: стихотворение есть сублимация эротических вожделений поэта и должно рассматриваться соответственно. Просто.
То, что Гомер, когда он писал «Одиссею», был, вероятно, уже весьма дряхлый старец, как, несомненно, дряхлый старец был Гёте, дойдя до второй части «Фауста», не имеет значения. Что вообще нам делать с эпическими поэтами? И как можно постоянно сублимировать и при этом оставаться повесой? Поскольку без этого выражения нам, похоже, не обойтись, не будет ли достойнее предположить, что и поэтическая, и эротическая активность — формы проявления творческой энергии, что сублимация имеет место в обоих случаях? Что касается Музы, этого ангела языка, этой «старшей женщины», то биографам и публике лучше бы оставить ее в покое, а раз уж они не могут, то, по крайней мере, пусть помнят, что она старше всякой возлюбленной или матери, что ее голос более неумолим, чем усвоенный от матери язык. Она будет диктовать поэту вне зависимости от того, где, как и когда он живёт, и не этому поэту, так следующему, — отчасти потому, что жить и писать — это два разных занятия (вот для чего два разных глагола), и уравнивать их более нелепо, чем разделять, ибо прошлое литературы богаче, чем прошлое любого отдельного человека, какова бы ни была его родословная. Тембр этого голоса, тембр времени (в отличие от божества, говорящего обычно повелительным тоном) напоминает гул, скорее даже монотонный, чем утешительный, что несколько убавляет женственности Музе. Но поскольку количество наличных полов ограничено, сгодится и дева с флейтой.
«Облик девы, конечно, облик души для мужчины», — написал русский поэт, и именно это стоит за подвигами Тезея или святого Георгия, поисками Орфея или Данте. Сама обременительность подобных предприятий свидетельствует об ином мотиве, нежели просто похоть. Другими словами, любовь — дело метафизическое, цель которого — осуществление или освобождение души: выветривание из неё шелухи бытия. В этом заключается и всегда заключалась сущность лирической поэзии.
В эпоху, которую мы называем современной, и поэт, и его читатели привыкли к коротким планам. Но и наш век знает довольно исключений, когда по доскональности разработки предмета поэт соперничает с Петраркой. Примером может быть Ахматова, может быть Монтале, могут быть «тёмные пасторали» Роберта Фроста и Томаса Харди. Часто творчество поэта, если он живёт достаточно долго, предстаёт как жанровая вариация одной темы, что позволяет отличить танцора от танца — в нашем случае, стихотворение о любви от любви как таковой. Если поэт умирает молодым, танцор и танец как бы сливаются воедино.
Хотя бы потому, что стихотворение о любви — чаще всего произведение прикладного искусства (то есть пишется затем, чтобы добиться девы), оно подводит автора к эмоциональному и, вполне возможно, лингвистическому пределу. В итоге, написав такое стихотворение, он знает себя — свои психологические и стилистические возможности — лучше, чем он знал их ранее, что и объясняет популярность этого жанра среди тех, кто в нем подвизается. Кроме того, иногда автор добивается девы.
Отвлекаясь от практического применения любовной лирики, ее обилие вызвано просто-напросто тем, что она есть продукт душевной необходимости. Зародившись в связи с конкретным адресатом, эта самая необходимость может остаться соразмерной этому адресату или обрести самостоятельную динамику и силу под воздействием центробежной природы языка. Следствием последнего бывает либо цикл любовных стихотворений, посвящённых одному и тому же лицу, либо некоторое количество стихотворений, расходящихся, так сказать, в разных направлениях. Совершаемый при этом выбор — если можно говорить о выборе там, где действует необходимость, — не столько нравственный или духовный, сколько стилистический, и определяется продолжительностью жизни поэта. И вот здесь-то стилистический выбор — если можно говорить о выборе там, где властвуют случай и течение времени, — чреват последствиями духовного свойства. Ибо в конечном счёте любовное стихотворение, в силу необходимости, — произведение нарциссизма. Оно запечатлевает, пусть даже с большой художественной выразительностью, собственные чувства автора и в этом качестве являет собой скорее автопортрет, чем портрет возлюбленной или ее внутреннего мира. Если бы не наброски, картины, миниатюры и фотографии, то часто, прочитав стихотворение, мы бы и не знали, в чем же, вернее, в ком же, собственно, было дело. Да и при наличии оных мы мало что узнаем о изображённых на них красавицах, кроме того, что они отличались от своих бардов и что, на наш взгляд, не все они могут называться красавицами. Но и тогда картинка редко дополняет текст, и наоборот. Кроме того, портрет души и портрет на журнальной обложке заведомо подчиняются разным критериям. Во всяком случае, для Данте понятие красоты определялось способностью ее носительницы разглядеть в овале человеческого лица семь букв, составляющих выражение «Homo Dei .
Таким образом, именно неслиянность создаёт метафизическую возможность, или, говоря иначе, различие между танцором и танцем: любовной лирикой и стихами о любви или одушевлёнными любовью. Стихотворение о любви не настаивает на реальности самого автора и редко прибегает к «я»; оно о том, что есть не он, о том, что он воспринимает как отличное от себя. Если это зеркало, то маленькое и расположенное слишком далеко. Для узнавания в нем себя, помимо смирения, требуется линза такой силы увеличения, при которой наблюдение неотличимо от зачарованности. Предметом стихотворения о любви может быть практически что угодно: черты девы, ленты в ее волосах, пейзаж возле дома, плывущие облака, звёздное небо, какая-нибудь вещь. Оно может не иметь отношения к деве; в нем может описываться диалог между двумя мифологическими или реальными персонажами, букет, снег на железнодорожной платформе. И все же читатели поймут, что они читают стихотворение, одушевлённое любовью, по пристальности внимания, уделяемого той или иной детали вселенной.
Знаменитое восклицание Пастернака: — «Всесильный бог любви, всесильный бог деталей!» — пронзительно именно потому, что сумма этих деталей не имеет решительно никакого значения. Несомненно, существует соотношение между незначительностью детали и пристальностью уделяемого ей внимания, равно как между сим последним и мерой духовного совершенства, потому что любое стихотворение, независимо от предмета, — само по себе акт любви, не столько автора к своему предмету, сколько языка к фрагменту реальности. Ей нередко присуще элегическое настроение, тембр жалости, так бывает потому, что это любовь большего к меньшему, постоянного к преходящему. Это, разумеется, не влияет на романическое поведение поэта, поскольку он, физическая сущность, охотней отождествляет себя с преходящим, чем с вечным. Ему дозволено знать лишь то, что, когда речь идёт о любви, самой адекватной формой выражения является искусство, что на бумаге можно достичь более высокой степени лиризма, чем на постельных простынях.
В противном случае мы не были бы обременены таким количеством искусства. Точно так же, как мученичество или святость подтверждают не столько существо убеждений, сколько возможности веры, заложенные в человеке, любовная поэзия говорит о способности искусства превзойти реальность — или полностью уйти от неё. Только фотография, может быть, вправе претендовать на то, что она способна остановить реальность. И некоторое время тому назад, в маленьком крепостном городке на севере Италии, я столкнулся с попыткой именно такого рода: запечатлеть реальность поэзии посредством камеры. Там устроили небольшую выставку фотографий возлюбленных приблизительно тридцати великих поэтов двадцатого века — жён, любовниц, сожительниц, юношей, мужчин. Вообще она начиналась Бодлером и заканчивалась Пессоа и Монтале, к каждой фотографии прилагалось знаменитое стихотворение на языке оригинала и в переводе. Счастливая мысль, думал я, влачась вдоль застеклённых витрин, где в анфас, в профиль и в три четверти помещались черно-белые лица бардов и тех, кто явили собою судьбу — их или их языков. И вот они были — стайка редких птиц, пойманная в сеть этой галереи, и они в самом деле могли считаться отправной точкой искусства от реальности, а лучше сказать, средством перенесения реальности к высшему пределу лиризма, в стихотворение. В конце концов, для увядающих и обычно бренных черт искусство — иного рода будущее.
Не то чтобы запечатлённым там женщинам (и нескольким мужчинам) недоставало душевных, внешних или эротических качеств, потребных для того, чтобы составить счастье поэта: напротив. Некоторые были жёнами, другие любовницами или возлюбленными, третьи надолго задерживались в воображении поэта, тогда как их появление в его краях было, возможно, весьма мимолётным. Разумеется, при ошеломляющем разнообразии того, что может вписать природа в человеческий овал, выбор возлюбленной кажется случайным. Для поэта, как для любого другого человека, он сужается обычными факторами — генетическими, историческими, социальными. И все же, возможно, особой предпосылкой выбора, который совершает поэт, становится присутствие в этом овале некоего нефункционального выражения, выражения амбивалентности и незаконченности, претворяющего, так сказать, во плоти сущность его устремлений.
Вот что обычно силятся передать такие эпитеты, как «загадочный», «мечтательный» или «потусторонний», и чем объясняется преобладание в той галерее визуально неустойчивых блондинок по сравнению с чрезмерно определенными брюнетками. В общем и целом, во всяком случае, эта характеристика, несмотря на ее расплывчатость, вполне подходила перелётным птицам, пойманным в ту самую сеть. Ощущающие направленный на них объектив или застигнутые врасплох, эти лица, казалось, были отмечены общим выражением отсутствия, некой рассеянности мысли. Конечно, в следующую минуту они будут энергичными, собранными, простёртыми навзничь, сладострастными, они будут носить ребёнка или сбегут с любовником, предстанут кровожадными или страдающими от неверности барда — короче говоря, более определенными. Однако в момент съёмки они явили свою пробную, неопределённую сущность, которая, как незаконченное стихотворение, ещё не имела следующей строчки, а очень часто предмета. И, как стихотворения, их не заканчивали, их только оставляли. Короче, они были черновиками.
Значит, именно изменчивость одушевляет лицо для поэта, заставляет Петрарку уподобить краткость жизни взмаху ресниц или обретает почти осязаемое отражение в знаменитых строчках Йейтса:
И вспышки беззаботной красоты,
И как ее любили — впрямь и ложно,
Но лишь один, паломницы тревожной,
Твоей души любил и знал черты.
Способность читателя сопереживать этим строчкам говорит о том, что изменчивость обладает для него такой же притягательностью, как для поэта. Точнее, здесь мера его лирического проникновения — есть мера его отчуждённости от этой самой изменчивости, мера связанности определенным: чертами или обстоятельствами, или же и тем и другим. Вместе с поэтом он различает в этом меняющемся овале гораздо больше, чем семь букв «Homo Dei»; он различает в нем весь алфавит, во всех его комбинациях, то есть язык. Вот как в конце концов Муза становится женщиной. Четверостишие Йейтса звучит как момент узнавания одной формы жизни в другой: дрожания голосовых связок самого поэта в смертных чертах его возлюбленной, неопределённости в неопределённости. Иными словами, вибрирующему голосу все пробное и запинающееся отзывается эхом, которое временами возводится в alter ego, или, с поправкой на пол, altra ego.
Невзирая на императивы пола, давайте не забывать, что altra ego — не Муза. В какие бы солипсические глубины ни ввергал поэта плотский союз, ни один поэт не примет свой голос за эхо этого голоса, внутреннее за внешнее. Необходимым условием любви является автономия объекта, желательно в пределах непосредственной досягаемости. То же самое относится к эху, определяющему диапазон голоса. Те запечатлённые на выставке — женщины и, более того, мужчины — сами не были Музами уже потому, что находились в пределах досягаемости своих бардов. Они не были Музами, потому что были смертны и их можно было сфотографировать.
Они были (или стали) жёнами других: актрисы и танцовщицы, учительницы и разведённые супруги, медсестры: они имели положение в обществе и, таким образом, поддавались определению, тогда как главное свойство Музы — позвольте мне повторить — в том, что она неопределима. Они были неврастеничны и безмятежны, распутны и строги, набожны и циничны, щеголихи и неряхи, изощренно умны и едва грамотны. Некоторым было наплевать на поэзию и они охотней обнимали обыкновенного хама, чем страстного обожателя. Вдобавок они жили в разных странах, хотя приблизительно в одно и то же время, говорили на разных языках и не знали друг друга. Короче говоря, их связывало лишь то, что нечто сказанное или сделанное ими в определенный момент запустило и привело в движение машину языка, и она покатилась, оставляя за собой на бумаге ‘лучшие слова в лучшем порядке». Они не были Музами, потому что заставили Музу, старшую женщину, говорить.
Пойманные в сеть галереи, думал я, эти птицы певческого рая, по крайней мере, получили подобающий им опознавательный знак, если не собственно кольца. Большинство из них, как и их певцы, уже умерли, и умерли их позорные тайны, моменты триумфа, обширные гардеробы, продолжительные malaises4 и особые пристрастия. Осталась же песня, в неменьшей степени обязанная своим появлением способности птиц упархивать, чем певцов — щебетать, и все же переживающая обоих — так же, как она переживёт своих читателей, которые, по крайней мере в момент чтения, участвуют в ее дальнейшей жизни.
В этом заключается различие между возлюбленной и Музой: последняя не умирает. То же с поэтом и Музой: когда его уже нет, она находит себе другой рупор в другом поколении. Иначе говоря, она всегда бродит около языка и как будто не возражает, если ее принимают за обыкновенную деву. Ее забавляет эта ошибка, и она старается ее исправить, диктуя своему подопечному то страницы Paradiso, то стихотворения Томаса Харди 1912-1913 годов, то есть строки, где голос человеческой страсти уступает голосу лингвистической необходимости.
Возможно, наилучшее тому подтверждение — главенствующее место, которое в поэзии занимает элегия. По определению, стихотворение «in memoriam» всегда нефункционально, потому что его адресата нет. Его практический смысл — лишь в излиянии горя. Но у любого достаточно стеснительного человека, каким неизбежно является поэт, этот механизм преодоления горя либо вызывает сопротивление, либо, когда к нему прибегают, усиливает чувство вины. Если же тем не менее он разражается элегией, то потому, что профессиональная часть его существа полагает, что стилистические аспекты разработки предмета могут открыть в нем новое измерение, новую перспективу его видения. Осознание такой возможности есть голос лингвистической необходимости, диктат Музы.
Прекрасный пример в нашем случае — великий стихотворный цикл Томаса Харди 1912-1913 годов. Будто бы оплакивая смерть жены поэта Эммы Харди, этот цикл, слава английской поэзии, следует буквально по пятам «Слияния Твейна», центральная метафора которого — несчастливый брак. Следует добавить, что брак продолжался тридцать восемь лет и что меньше чем через два года после смерти героини цикла поэт женился опять. Следует также отметить, ‘ что поэтическая продукция Харди приблизительно на одну треть так или иначе состоит из кладбищенских медитаций.
Это соотношение определяется не продолжительностью жизни самого поэта и не частотой потерь. Оно определяется родством между бренностью самого средства (стихотворения, стремящегося к концу) и человеческого удела (конечностью жизни). Так, могильная плита часто служит Харди отправной точкой: действительно трамплином для постижения реальности. Агностик, он обладает гораздо большим вкусом к метафизике, чем верующий, который обычно довольствуется тем, что предлагает вера. К этому нужно добавить антилирическую, я бы сказал, антиутопическую (ибо в своём удалении от обычной речи лиризм равносилен обещанию утопии), фактуру стиха Харди, его отвращение к гладкой строке и тяготение к грубой поверхности, что не столько убеждает читателя в искренности высказываний поэта, сколько предохраняет самого поэта от самообмана.
И он не был обманут в этом цикле: ни горем и раскаянием, ни самим стихом. Стихи 1912-1913 годов замечательны тем, что посвящены они памяти не жены, а невесты. Иными словами, бесконечность, над которой размышляет и которую постигает поэт в своём цикле, — это не бесконечность загробной жизни, а скорее та бесконечность, которая отделяет его от Эммы Гиф форд какой она «явилась ему там / На склоне, видимом лишь немногим, / Который спускается на восток / К солёному краю моря» в Корнуолле в 1874 году. Это Эмму Гиффорд, увиденную впервые в том небесно-голубом платье, он старается различить сквозь мутный, тёмный, уже холодный телескоп Эммы Харди в 1912-1913 годах, это она преследует его повсюду. Это и есть любовная поэзия в самом подлинном смысле, потому что она говорит читателю о том, как толсты линзы, как далека и недостижима звезда, — словом, о том, что становится с любовью, к чему прибавляет или от чего отнимает любовь.
Так сказать, смерть Эммы Харди выпускает в мир, по крайней мере на бумаге, Эмму Гиффорд, позволяя ей занять место, если не время, заказанное ей в настоящем: она становится стихотворением, принадлежностью Искусства, реальностью языка. В этом отношении у Харди происходит нечто подобное тому, что Секст Проперций сделал для своей Цинтии. В «Твоей последней прогулке» героиня цикла Харди корит поэта так же горько, как Цинтия корила Проперция две тысячи лет тому назад. Это не просто совпадение притязаний: это чистая лингвистическая необходимость, которая возрастает с каждой потерей, которая пропорциональна неспособности мёртвых говорить. Как и у римлянина, когда умолкла Эмма, Муза продолжала.
Перевела с английского Ирина Нинова
1 Ремесло (фр.)
2 Человек божий (лат.)
3 Пер. Э. Л. Линецкой. Последняя строчка в дословном переводе звучит так: «И любил печали твоего изменчивого лица». (Прим, пер.)
4 Болезни (фр.)
Эта лекция была прочитана 11 октября 1990 года и напечатана в «Литературном приложении к «Таймс» в выпуске 26 октября — 1 ноября. Иосиф Бродский был приглашён газетой «Литературное приложение к «Таймс» для прочтения первой лекции из задуманной этим изданием серии ежегодных лекций о взаимодействии британской и европейской культур.