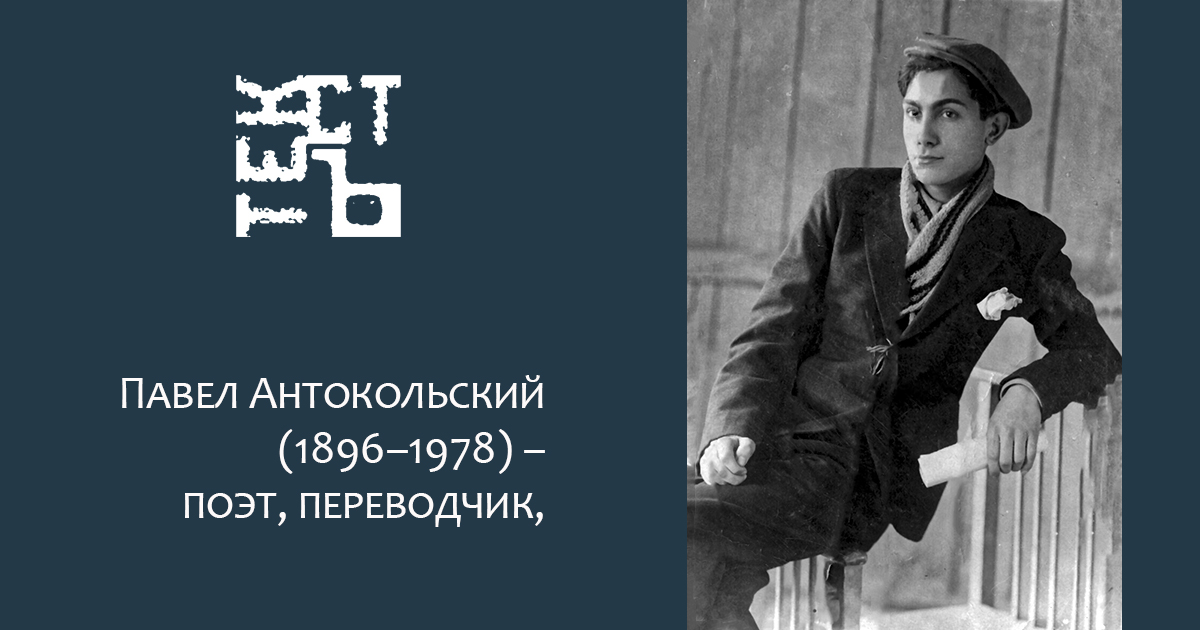Лунное сальто
* * *
Он ещё молчит, и ему неловко
облекать в слова, как ржавеет вечер,
или как бельевая дрожит верёвка,
ведь её и сравнить-то покуда не с чем.
На бочок, молчок, светлячок запаса,
и в его копилке чудес под кожей
надрываются птицы пера Саврасов-
а-а… — эхо, единственный звук возможный.
Он пока ученик одного дыхания,
унисона, сердца-такт-в такт-биения
с той, чьи к вечеру млечные очертания
старший брат называет стихотворением.
Но ещё — ни брата, ни даже матери,
никаких фамильных дерев, а только
то, как вишни срывает с клеёнки скатерти
безымянная, полная звуком сойка, —
видит. Или же, лишь предчувствуя
неминуемость жизни, её горячую
оболочку, письменную и устную,
выбирает детство немое, зрячее?
Собирает ноты в тетрадку опыта —
с неба сброшенный человечий колокол,
безъязыкий, не ведающий ни шёпота,
ни последней песни, ни то, как волоком
годы поволокут за краешек
изумрудного блюда с телегой, с лошадью,
как снега словес ледяных, не тающих,
полетят, стреляя в кого ни попадя,
выправлять красивости на уродства,
как себя на куски разрывают сами
облака, — наконец, добиваясь сходства
с парусами.
* * *
Шум отступает — и мы начинаем жить
вглубь, а не вширь проспекта, где долговязо
дом упирается в облако и дрожит,
верхним окном не просияв ни разу,
не обнаружив угол, где борода
сумерек — лиловата и, чуть притухнет
день, шелестит в раковине вода
на языке позднерембрандтской кухни.
Всматриваться, как наши не-шепотки
в чешуекрылых красит остаток света —
наискосок, как тенью моей руки
затемнена, чашка твоя согрета,
вывернут наизнанку грудной карман,
в форточку залетает огарок мая,
ива кивает, отводит глаза, обман-
ывает, ывает, будто глухонемая.
Наших не-разговоров прозрачный шёлк
губы стянул, смялся, поплыл по новой,
чтобы — молчок, сверчок, да под ним шесток
стыл, неподвижен, выжжен, татуирован.
И вопреки предгрозовому «пли!»,
хлюпанью пешеходов, трамвайной фуге —
лишь тишина — лучшее, что смогли,
не шевельнув губами, прочесть друг в друге.
* * *
Это ещё не Венеция, это Падуя,
как настоящая, стоит лишь приглядеться,
на авансцену свет театрально падает,
жар-петушки стайно штурмуют небце.
Маленьким людям к Богу — семь пядей по снегу,
липнут к стене джоттовские стремянки,
путник игрушечный мчится к обеду позднему,
скрыв под пальто крылышки голубянки.
Роспись, эмаль — сколько всего намешано!
Ловкий левша, вооружившись лупой,
выточил пьяццу да лилипута пешего,
если точней, паяца с улыбкой глупой.
Этот фантош, снег бороздящий истово,
хватко подцеплен Мастером многооким,
перепоясан нитями серебристыми,
поднят, подвешен, взвешен и найден лёгким.
Что ж, он не против, нет, ему даже нравится
плыть налегке, жить в новостройке хлипкой
и по ночам в спальне родную карлицу
шёпотом величать золотою рыбкой.
Очень давно, когда ничего на веру
не принималось, он с инфантильной страстью
всех уверял, что вырастет Гулливером,
и наплевать, что там задумал Мастер:
ниже травы, детям читать нотации,
тише воды, следить за порядком в доме,
помнить, что — мал, Падуя — декорация,
Мастер живёт в Венеции, он — огромен.