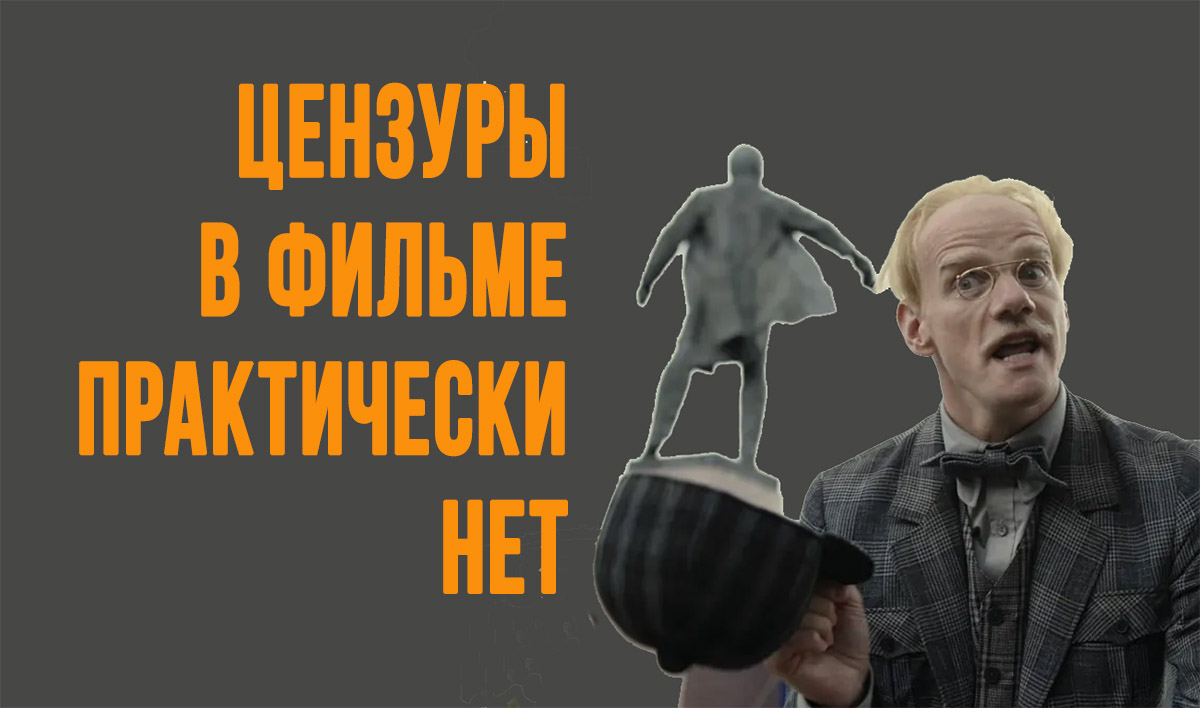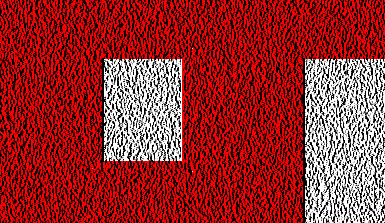Илья Эренбург и Германия
Илья Эренбург знал, что про него говорят: он-де обожает Францию и не любит Германию, обожает французов и не любит немцев. Беседуя в 1966 году в Москве с Генрихом Бёллем, он сам заговорил на эту тему: «Меня обвиняют, что я не люблю немцев. Это неправда. Я люблю все народы. Но я не скрываю, когда вижу у них недостатки. У немцев есть национальная особенность — всё доводить до экстремальных крайностей, и добро и зло. Гитлер — это крайнее зло».1 Уже после смерти Эренбурга его дочь Ирина, когда при ней упоминали про нелюбовь Эренбурга к немцам, всегда отвечала, что ее мать (Е. О. Шмидт) — самая большая любовь отца — немка. Это неизменно производило впечатление. Добавим, что в мемуарах Ильи Эренбурга упоминаются 3500 имён; среди европейцев-иностранцев первое место, понятно, за французами (474 имени), а второе, пусть и с большим отрывом, но, опережая испанцев, итальянцев и англичан, занимают немцы (161 имя). Эта статистика вполне репрезентативна…
Совершая свои первые поездки по Германии (в 1903, 1904 и 1909 годах), юный Эренбург удивлялся в немцах разве что педантичности; Первая мировая война заставила его задуматься о Германии всерьёз. Эренбург посылал корреспонденции в российские газеты с франко-германского фронта; отвергая оголтелость французского шовинизма, он поражался методичности немецкого варварства: «Можно колебаться в разгроме городов Реймс или Ипр, лежащих в зоне беспрерывных военных действий. Но есть факты неоспоримые и достаточно убедительные в своей простоте. Прежде всего, поджог Лувена. Европейцы XX века наметили по плану кварталы города, подлежащие уничтожению, они обливали воспламеняющимся составом алтарь собора и пергаменты библиотеки. Самое поразительное в этом — обдуманность, осознанность преступления. За преступлением раскаяния не последовало. Я объясняю это не прирождёнными пороками немецкого народа, а той ролью «вождя», которую ему присудила история. Соборы и старинные памятники для людей этой культуры были предметами не первой необходимости, но роскоши. Изучение не означает любви… Археолог Мюллер может в мирное время изучать раскопки, но генерал Мюллер на войне, не задумываясь, распорядится сжечь и библиотеку, и церковь, и музей».2
-
-
-
-
ПОЛЮБИ БЕРЛИН… (1921–1923)
-
-
-
Оказавшись весной 1921 года в Париже с советским паспортом, Эренбург вскоре был оттуда выслан; чудом ему удалось обосноваться в Бельгии. Там он за месяц написал давно продуманный роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито». Среди несомненных удач этого романа — образ Карла Шмидта, одного из спутников главного героя, великого провокатора Хулио Хуренито. Путешествующие с ним — американец, француз, африканец, русский, итальянец, немец и еврей — типы, сатирически воплощающие определенные национальные черты. Эти черты, в общем-то, не открытие Эренбурга, и только Карл Шмидт, который мог одновременно быть и националистом и социалистом (ибо «и те и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества»), оказался открытием, поскольку был создан, предвосхищая будущее, до проникновения национал-социализма в германскую жизнь — это одно из пророчеств романа…
В октябре 1921 года Эренбург переехал из Бельгии в Берлин, где поселился в пансионе на Прагерплац (через год перебрался в пансион на Траутенауштрассе).
Интенсивность берлинской жизни Эренбурга впечатляет. С конца 1921 по 1923 год Эренбург — постоянный критик журнала «Новая русская книга», постоянный докладчик и участник дискуссий в Доме искусств. Но главное — за это время он издал 14 книг: романы, повести, новеллы, стихи, стихотворные пьесы, эссеистика, публицистика (половина их написана уже после переезда в Германию; большинство книг выпустило издательство «Геликон»). Отмечу, что в 1923 году в Берлине две книги Эренбурга впервые вышли на немецком — «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» (издательство Welt-Verlag). В русской литературной хронике Берлина тех лет — весьма плотной и разнообразной — имя Эренбурга встречается повсеместно. «В Берлине существовало место, — вспоминал Эренбург, — напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели».3 Далее следует длинный список: 20 имён — далеко не полный перечень тех, с кем Эренбург тогда общался… Среди не названных в списке — начинающий поэт и прозаик Овадий Савич, впоследствии самый близкий друг Эренбурга, всемирно известный славист Роман Якобсон, великий польский поэт Юлиан Тувим.
В Берлине 1922 года продолжились встречи Эренбурга с Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Ходасевичем, Есениным, Андреем Белым, Шкловским, Таировым…
Кстати, о Шкловском. В 1923 году в Берлине вышла его книга «ZOO, или Письма не о любви», одна из глав ее имеет такой подзаголовок: «О весне, «Prager Diele», Эренбурге, трубках, о времени, которое идёт, губах, которые обновляются, и о сердцах, которые истрёпываются, в то время как с чужих губ только слезает краска…». «Prager Diele» — это еще одно кафе в Берлине, которое с лёгкой руки Эренбурга стало популярным среди русских писателей; там он работал, встречался с друзьями и жил неподалёку. В этой же главе, имея в виду политическую эволюцию Эренбурга, Шкловский сказал: «Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович…» Эти слова Эренбургу понравились.
Литературная и художественная жизнь в русском Берлине были переплетены; художественные диспуты собирали подчас ту же публику, что и литературные. Эренбург оказывался вовлечённым в художественные баталии не только из-за своей дружбы с Натаном Альтманом или Эль Лисицким, но главным образом из-за книги «А все-таки она вертится» (этот гимн конструктивизму по выходе своём вызвал яростные споры).
5 декабря 1921 года Эренбург выступил в берлинском Доме искусств с докладом «Оправдание вещи», в котором развил свои соображения, изложенные в книге «А все-таки она вертится»; тогда-то и обнаружилось, что многие его идеи совпадают с замыслами художника Эль Лисицкого. Объединившись, Эренбург и Лисицкий начали издавать международный художественно-литературный журнал «Вещь» — он пропагандировал конструктивизм во всех видах искусства. Лисицкий осуществлял оформление и макетирование журнала, вместе с Эренбургом определял его художественную направленность. Эренбург был автором программных и полемических редакционных статей, формировал литературную политику.
Главной задачей было взаимное знакомство авангарда Запада и нового левого искусства послереволюционной России. Журнал должен был стать мостом между Россией и Западом; в основу такого объединения были положены не политические, а эстетические (конструктивистские) установки. Предполагалось печатать материалы по-русски, по-французски и по-немецки. Первый, сдвоенный, номер вышел в начале апреля, третий — 1 июня 1922 года.
Немецкая часть журнала формировалась безотносительно к тогдашнему униженному положению Германии. В № 1–2 была объявлена публикация стихов Карла Эйнштейна. Ряд материалов был напечатан по-немецки — например, статья И. Глебова о С. Прокофьеве и обзорная статья «Die Ausstellungen in Russland» («Выставки в России»), под которой хорошо информированный автор подписался: Ulen (возможно, это был сам Лисицкий). В № 3 была напечатана в переводе на русский статья Людвига Гильсберсеймера «Динамическая живопись» (о беспредметном кинематографе Рихарда Эггерлинга). Отметим также помещённую в журнале информацию о первой международной выставке в Дюссельдорфе (май—июль 1922 года) и обзор Лисицкого «Выставки в Берлине» (подпись: Эл).
№ 3 «Вещи» оказался последним — фактически советская власть задушила журнал, запретив его распространение в России…
Для Эренбурга смолоду было характерно беспокойное стремление узнать жизнь и культуру тех стран, куда его забрасывала судьба. Так, в Берлине Эренбург находил время на посещение музеев и выставок, чтение газет и встречи с литераторами, художниками и политиками.
Вспоминая Берлин 1922 года в мемуарах, Эренбург особенно отмечает несколько имён.
Первое — поэт и эссеист Карл Эйнштейн, который за свою пьесу об Иисусе привлекался к суду (Эренбург посещал заседания суда и упомянул их в «Письмах из кафе»): «Это был весёлый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка… Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи» (7, 179).
Затем известный прозаик Леонгард Франк, автор книги «Человек добр», с которым Эренбург встречался и впоследствии, уже после Второй мировой войны: «Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться — и сразу исчезнет злое наваждение» (7,181).
Третье имя — художник Георг Гросс — требует отступления.
Искусствовед М. В. Алпатов писал, что, ценя новую французскую школу живописи, Эренбург «грешил недооценкой» достижений немецкого экспрессионизма и школы Баухауза.4 Это так. Эренбург утверждал: «Экспрессионизм — истерика» и пояснял свою мысль: «В галерее «Штурм» висит громадное полотно, закиданное красной краской. Называется «Симфония крови». Критиковать? Не стоит. Просто художнику не до картин: он хотел плакать или буянить. Краски оказались под рукой. Мог оказаться револьвер — было бы хуже» (4, 14). Не принимая такого искусства, Эренбург не судил заглазно: с Моголи Надем он был в Баухаузе и назвал его творчество «единственной живой художественной школой Германии» (4, 25); он посещал выставки «Штурма» на Потсдамерштрассе 184-а, писал о них, был дружен с Хервартом Вальденом, вдохновителем «Штурма» («В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками — их приносили из соседнего кафе». — 7, 181).
С художественным миром Берлина Эренбург, кроме того, был связан благодаря своей второй жене, Л.М. Козинцевой, — художнице, ученице Экстер и Родченко. 10 мая 1922 года в галерее «Штурм» была устроена первая выставка ее гуашей (совместно с немецким экспрессионистом Куртом Швиттерсом). Козинцева сообщала в Москву Родченко: «Рядом с немецким экспрессионизмом мои вещи имели тихий, чистоплотный вид. В газетах хвалили».5 Берлинский «Голос России» 4 июня 1922 года писал о ее гуашах: «Здесь краски, а не бог знает что, здесь рассчитано и выписано, а не намазано, здесь школа и — по сравнению с немцами — мастерство». С того года выставки Л. М. Козинцевой в Европе проходили ежегодно (так, в мае 1923 года она участвовала в Große Berliner Kunstausstellung am Lehrter Bahnhof6 вместе с Лисицким; последняя выставка ее гуашей в Берлине состоялась в марте 1929 года в галерее М. Вассерфогеля).
Не любя экспрессионизм, Эренбург полюбил Георга Гросса: «Германия тех лет нашла своего портретиста — Георга Гросса. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией… У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмбанфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима» (7, 185). Это — позднее суждение, но и в 1927 году, признавая социальную остроту рисунков Гросса, Эренбург проницательно подметил: «Однако сущность его демонологии глубже и постоянней. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальный показатель. Они твердят о спёртости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души» (4, 36).
В личном архиве писателя сохранилась фотография — на обороте его рукой написано: «У Гроcса. Берлин 1929». Это встреча Нового, 1930 года — вокруг стола, заставленного нарядными бутылками, — Поль Элюар, Эренбурги, артисты театра Таирова и сам Гросс — с сигарой, смеющийся. И еще сохранился альбом рисунков Гросса, изданный в Дрездене в 1925 году. На нём — чёткая карандашная надпись: «Ilya Ehrenburg mit besten Grüßen aus Deutschland. Georg Grosz. Berlin, 11. Juli 1926».7
Последний роман Эренбурга, написанный в Германии (сентябрь-ноябрь 1923 года), — «Любовь Жанны Ней». «Я писал «Жанну Ней» в Берлине, в маленьком турецком кафе, где восточные люди суетясь сбывали друг другу доллары и девушек, — вспоминал Эренбург. — Я выбрал эту кофейню, столь непохожую на роскошные кондитерские западного Берлина, за непонятный говор, за полумрак, за угрюмость. Там каждое утро я встречался с моими героями».8 Действие этого одновременно сентиментального и авантюрного романа происходит в местах, которые Эренбург хорошо знал, — в Восточном Крыму, Москве, Париже; действие последней главы перенесено на северную окраину Берлина (к этому моменту все сюжетные линии романа уже завершены, осталось посчитаться со злодеем Халыбьевым — именно на нищей, грязной улице Клейндорф обрекает его писатель корчиться в заслуженных судорогах…).
Илья Эренбург жил в Берлине не безвылазно, он был путешественник по натуре (помимо всего прочего, поездки обычно давали еще и материал для литературной работы). За время оседлой жизни в Германии Эренбург смог побывать в Веймаре (из веймарских впечатлений: «Я долго стоял у простого протёртого кресла, на котором умер Гёте». — 4, 25), Магдебурге, в горах Гарца близ Брокена, в Хильдесгейме («Отсюда или из Нюрнберга надо начинать плавание по душе Германии». — 4, 21), на северном побережье (здесь во время «летнего отдыха» были написаны знаменитые «13 трубок» и книга стихов «Звериное тепло»). Немалый опыт путешественника позволял Эренбургу сравнивать впечатления; он писал о Германии: «Как все здесь не похоже на старую Италию или даже на соседнюю Фландрию! Только тут и чувствуешь вес, вязкость, значимость земли. Умбрийские холмы слишком легко давались. Они напоминают перевёрнутое небо. А брюггские меланхолики, несмотря на рагу, пиво и полнотелых жён, бредили северной жидкой лазурью. Здесь, в Германии, прекрасный культ уродства. Венеры Кранаха соблазнительны, как таксы. В домах, в картинах, в языке — уют, приземистость, спёртость. Всюду — и в узких улицах с крюком-вывеской ростовщика, и в погребках, и в чернявости готических книг, и в топорных пословицах — всюду чувствуется присутствие женского тела, пылающего очага, смерти» (4, 21).
В блистательном «Письме из кафе» возникает образ Берлина тех лет — отталкивающий и одновременно привлекательный: «Берлин уныл, однообразен и лишён couleur locale. Это его «лицо», и за это я его люблю. Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два — и увидеть то же самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, общипанные вечными сквозняками, и на углу сигарную лавку «Лейзер и Вольф». Это — выставка, громадный макет, приснившийся план» (4, 8). Сравнив Берлин с Парижем и Лондоном, Эренбург замечает: «А Берлин — просто большой город, мыслимая столица Европы. Среди других городов это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов»(4, 9). Одной строчкой Эренбург умел создать портрет; таков и его Берлин — «город отвратительных памятников и встревоженных глаз» (4, 16). Попав в немецкую столицу в тяжкое для страны время, подметив городские контрасты (жизнь в Берлине писатель сравнивал с жизнью на вокзале), Эренбург увидел и другое: «Этот город беженцев, несмотря на все своё отчаяние, исступлённо работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале, — видишь только прекрасные железнодорожные мастерские. А зачем эти люди работают и что будет завтра — они сами не знают». И далее, обращаясь к неназванному другу, он делает существенное замечание: «Как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Не забывай, что речь идёт о народе философов, социальных доктринёров и моралистов. В маленьком кафе «Иости» за чашкой желудёвого кофе посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы. Шпенглер писал свою книгу («Закат Европы». — Б. Ф.) здесь же, рядом, на вокзальной стойке» (4, 15). Может быть, поэтому он заканчивает своё послание к другу неожиданно: «Я прошу, поверь мне за глаза и полюби Берлин» (4, 16).
-
-
-
-
СУМЕРКИ СВОБОДЫ (1924–1932)
-
-
-
К концу 1923 года рай для русских эмигрантов в Берлине закончился — марка окрепла, и легко расплодившиеся русские издательства так же легко закрывались; часть эмигрантов перебралась в Париж, часть в Прагу, часть вернулась в Москву. Берлин утратил роль главного центра русской эмиграции. «Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улёгся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни», — вспоминал Эренбург (7, 223).
Начало 1924 года Эренбург провёл в России и в конце марта вернулся в Берлин. «За время моего отсутствия, — писал Эренбург прозаику Владимиру Лидину, — русское издательское дело здесь окончательно зачахло, зато немецкое поправилось».9
Эренбург утвердился в мысли покинуть Германию и 15 мая уехал из Берлина в Италию, откуда двинулся в Париж. Уже 1 сентября в письме к Владимиру Лидину, сравнивая две столицы, он заметил: «В Берлине сейчас страшная мертвечина», хотя вместе с тем в конце года в письме Евгению Замятину, говоря о парижской жизни, признался: «Здесь живём как-то глуше, изолированней, нежели в Берлине».
Берлинская жизнь завершилась, но в 1925–1931-е годы Эренбург ежегодно неоднократно приезжал в Берлин — по издательским и киноделам, на выставки Л. М. Козинцевой, в гости к Савичам, для встречи Нового года, а то и просто транзитом: по дороге в Прагу, Варшаву или Москву; бывал он и во Франкфурте, Штутгарте, Нюрнберге…
Особенно близкие отношения сложились в эти годы у Эренбурга с берлинским левым издательством «Малик»; именем Малик Эренбург даже назвал любимую собаку. «В Германии, — вспоминал он много лет спустя, — переводы моих книг выпускало издательство «Малик Ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег…» (7, 285). Издательство «Малик», несомненно, было левее тогдашнего Эренбурга и не все его книги готово было выпускать (речь, конечно, не идёт о каком-либо одобрении издательских планов «Малика» Коминтерном — скажем, изданный «Маликом» роман Эренбурга «Единый фронт» вообще не вышел в СССР,10 а «День второй» в Берлине напечатали раньше, чем в Москве, — тем не менее среди изданных «Маликом» книг Эренбурга не было не только «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца», но и опубликованного в СССР романа «В Проточном переулке» — их в немецком переводе выпустили другие издательства). «Малик» начал издавать Эренбурга в 1926 году — первыми были две книжки: «Любовь Жанны Ней» (тираж дважды допечатывался и достиг рекордных для Эренбурга 21 тысячи; обычный тираж укладывался в пределах 10 тысяч) и «13 трубок». Эти книги, как и последующие, блистательно оформил брат Виланда Герцфельде — Хельмут, взявший себе псевдоним Джон Хартфильд. В СССР внимательно следили за переводами с русского в левых немецких издательствах, печатали соответствующие обзоры; в связи с изданиями Эренбурга в Германии «напостовцы» высказывали опасения, что некоторые его произведения, проникнув на страницы немецкой коммунистической печати, «создадут путаницу».11 В 1927 году «Малик» выпустил «Избранные статьи» Эренбурга и запрещённого в Москве «Рвача» (под названием «Михаил Лыков»), в 1929-м — «Хулио Хуренито» и «Заговор равных», в 1930-м вышла книга «10 л. с.», в 1931-м — «Единый фронт» (немецкое название — «Священный груз»), «Фабрика снов», «Виза времени» и «Трест Д. Е.», в 1932-м — «Москва слезам не верит» и «Испания сегодня». С приходом гитлеровцев к власти издательство перебралось в Прагу, и книги Эренбурга выходили там: в 1933-м — «День второй», в 1934-м — «Гражданская война в Австрии», в 1936-м — «Не переводя дыхания» и, наконец, в 1937-м — последняя книга Эренбурга в издательстве «Малик» — «No pasarаn!».
Дружеские отношения Эренбурга с братьями Герцфельде продолжились и после войны. В архиве Эренбурга сохранились надписи на двух книгах, подаренных ему Хельмутом Герцфельде («Дж. Хартфильдом») в Москве 14 декабря 1957 года. В 1962 году братья Герцфельде вручили Эренбургу и его жене альбом «Джон Хартфильд», выпущенный в Берлине, с большой вступительной статьёй Виланда. В конце 1967 года Виланд приезжал в Москву, но Эренбурга уже не было в живых; посетив его вдову, Герцфельде подарил ей книгу своей прозы, изданную в Москве.
Не обходил Эренбург и немецкую периодику — печатался в журнале «Russische Rundsсhau» («Русское обозрение») начиная с его первого номера, вышедшего в 1925 году, и в газете «Die literarische Welt» («Литературный мир») — там, в частности, была напечатана его статья памяти Есенина. В 1927 году Эренбург писал: «Я встречаюсь здесь со многими немецкими писателями. Я плохо говорю по-немецки, но у меня с ними общий язык — это язык времени и ремесла. У меня немало друзей среди французских писателей, но я никогда себя не чувствую с ними как равный с равными. Я знаю, что в глубине души они удивлены: как это я говорю с ними о Прусте или о Валери, вместо того, чтобы предаваться джигитовке или тренькать на балалайке? В Берлине я не экзотика, не казак, который случайно знает грамоту и даже пишет романы, но современник» (4, 39–40). Это наблюдение относится к рассказу о разговоре с Альфредом Деблином, автором нашумевшего тогда романа «Берлин, Александерплац» (отметим, что в 1928 году в Берлине Эренбург вместе с Деблином, Брехтом и Толлером участвовал в русско-немецком поэтическом вечере12 ).
В 1927 году Эренбург познакомился и подружился с двумя немецкими писателями, которым потом посвятил портретные главы в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (пожалуй, единственные главы, целиком посвящённые немцам). Это драматург и поэт Эрнст Толлер и прозаик Йозеф Рот — оба они окончили жизнь в возрасте сорока пяти лет в мае 1939 года, не дожив до начала Второй мировой войны.
Знакомство с Ротом произошло в редакции «Frankfurter Zeitung» («Франкфуртская газета») — Эренбург предлагал газете свои очерки о Германии; когда вышел немецкий перевод «Рвача», газета откликнулась на него большой рецензией; Рот работал корреспондентом этой газеты в Москве, потом в Париже. О Роте в мемуарах «Люди, годы, жизнь» написано очень душевно; перечитав его книги, Эренбург заново осознал их масштаб. «Он никогда не писал стихов, — сказано о Роте в «Люди, годы, жизнь», — но все его книги удивительно поэтичны — не той лёгкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть, жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице» (7, 329–330). В монологах Рота, которые Эренбург привёл в мемуарах, есть отголосок какого-то их скрытого спора, горечь и недосказанность. Сейчас опубликованы письма Рота и видно, что он был умнее многих и понимал, что происходит в СССР, куда глубже других. Наверное, он говорил об этом с Эренбургом, хотя написано, что он спорит с его «друзьями». Понятно, что подцензурные мемуары не позволяли Эренбургу последовательную откровенность в описании этих встреч, но и сказанного было достаточно его внимательным читателям, чтобы о многом задуматься…
Судьба Эрнста Толлера, писателя, у нас теперь полузабытого, привлекала Эренбурга не только трагичностью и, в противовес Роту, событийной насыщенностью, но и контрастностью: «Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жёсткую». Для мемуаров Эренбург перевёл несомненно близкие ему стихи Толлера из «Книги ласточек» и написал: «Толлер сам походил на ласточку, может быть, на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает погоды» (7, 356). В библиотеке Эренбурга сохранились две книги Толлера: французский перевод стихотворной трагедии «Хинкеман» (надпись по-французски: «Илье Эренбургу дружески Эрнст Толлер. Берлин, 5.2.27) и русский перевод повести «Юность в Германии», изданный в Москве в 1935 году, — такая же надпись помечена: «Лондон, 23 июня 1936 года». Кроме того, в архиве Эренбурга сохранилась дарственная надпись Толлера на книге, подаренной в Берлине 30 сентября 1931 года: «Илье Эренбургу, попутчику нынешней революции и подлинному участнику вечной революции, — сердечно Эрнст Толлер».13
Что касается немецкого языка, то — в сравнении с французским (он говорил с русским акцентом, но словарь его, включавший всевозможные арготизмы, все же производил впечатление на французов) — Эренбург знал его неважно. А. Я. Савич рассказывала: «ИГ заменял знание немецкого языка находчивостью. Они жили тогда в Берлине. ИГ отправился за ветчиной: Bitte, Schinken. Продавщица: Im Stück oder geschnitten? — Bitte, oder.14 Покупая носки: Geben Sie mir bitte etwas zum Fuß…15
В Берлине была выставка Любиных картин. Слова Mahlerin и Gemahlin часто слышались в разговорах и, говоря о Любе с устроителем выставки, ИГ сказал: Meine Gemahlerin».16
В начале1927 года на берлинской киностудии «УФА» режиссёр Георг Пабст приступил к съёмкам фильма по роману Эренбурга «Любовь Жанны Ней».
В феврале по приглашению Пабста Эренбург приехал в Берлин; потом он приезжал еще раз в мае, затем присутствовал на натурных съёмках в Париже. В разгар съёмок роман «Любовь Жанны Ней» вышел еще раз по-немецки в издательстве «Rhein-Verlag» и был встречен восторженно в «Die literarische Welt» (по поводу этого отклика литературовед Н. Я. Берковский писал в статье «Советская литература в Германии»: «Не без оттенка оппозиции чрезвычайно чествуется Эренбург, тот самый, которого в СССР считают «наполовину агентом Чемберлена, на три четверти угнетателем китайского народа» и о котором польская пресса отзывается в то же время как о «кровавом коммунисте». Эренбург, беспартийный адогматик — сделан центром русского номера «Литерарише вельт». Хвалебный отзыв дан только что появившейся в немецком переводе «Жанне Ней» — Эренбурга называют несравненным романистом, поэтом, исполненным глубочайших переживаний, поэтом для немногих, недоступным читательской толпе»17 ).
Поскольку фильм Пабста был немой, актёров набрали разноязыких. «Из актёров, — вспоминал Эренбург, — мне понравился Фриц Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актёр» (7, 288). Эренбург подружился с Распом; все гитлеровские годы тот сохранял подаренные ему писателем книги, фотографии — они помогли ему, когда в Германию вступила Красная Армия.
В очерке «Встреча автора со своими персонажами» Эренбург рассказал об атмосфере съёмок фильма: «Когда я попал на фабрику «Уфы» в Бабельсберге, я увидел аркады Феодосии, заседание совета солдатских депутатов, парижские притоны, русскую гостиницу, холмы, татарские деревни, монмартрские бары… Москва здесь находится в десяти шагах от Парижа, — между ними только торчит какой-то крымский холм. Белогвардейский кабак отделен от советского трибунала одним французским вагоном. Здесь нет никакой иллюзии; обман искусства здесь откровенен и сух, но здесь не упущено ничто для поддержания иллюзии на экране».18
Эренбург впервые столкнулся с киноиндустрией; то, как она обращается с литературным произведением, его сильно задело. Точный в подробностях и деталях снимаемого материала, Пабст считал себя свободным в обращении с замыслом писателя — фильм, вопреки роману, имел happy end; его идеологическая направленность была изменена так, что из-за опасения реакции Москвы Эренбург вынужден был от фильма отмежеваться. Его письма протеста в редакции газет В. Герцфельде издал в виде памфлета отдельной брошюрой — но, разумеется, безрезультатно: протесты Эренбурга киностудия проигнорировала.
Фильм «Любовь Жанны Ней» время от времени показывают в киноретроспективах. Если не сопоставлять его с романом и не обращать внимания на то, что бутафория лезет в глаза в крымской части, надо признать: Париж снят Пабстом замечательно.
Разумеется, фильм Пабста прибавил известности Эренбургу в Германии, вызвал он и завистливые отклики русской эмиграции. Продолжали выходить немецкие переводы его книг; свободная немецкая критика имела возможность адекватно о них высказываться. Так, в вышедшей по-немецки книге Эренбурга «Заговор равных» (роман о Гракхе Бабефе, навеянный Эренбургу раздумьями о завершении русской революции) эмигрантская печать увидела «жёсткую критику сталинизма и прозрение советского термидора».19
Эренбурга издавали едва ли не во всей Европе, но он не мог не ценить особую открытость Германии зарубежной литературе — того, что немцы «сумели обуздать свои духовные таможни»: «Знакомство с иностранной литературой стало здесь почти общим достоянием. Неизвестные вне своих стран русский Бабель, ирландец Джойс, чех Гашек здесь переведены и оценены» (4, 39). При этом одно противоречие бросалось ему в глаза: «Странная страна: машина в ней окружена куда большим почётом, нежели человек, но Достоевский в ней популярнее, общедоступней и Бенуа, и Лондона, и Синклера» (4, 61; имеются в виду писатели Пьер Бенуа, Джек Лондон и Эптон Синклер). Отношение же Эренбурга к тогдашней немецкой литературе было достаточно критичным: «Нет сейчас более безуютной литературы, нежели немецкая. Здесь забываются и временные эстетические мерки, здесь забываются и непреложные каноны искусства. Чувство социальной тревоги треплет, как лихорадка, эти страницы» (4, 40).
В книгах, которые Эренбург писал начиная с 1929 года, он исследовал работу воротил бизнеса. Издательство «Малик» тут же издавало их в переводе на немецкий; не всем в Германии они приходились по душе. Так было, например, с романом «Единый фронт» (в немецком переводе — «Священный груз»), посвящённом королю спичек Ивару Крейгеру. Немецкий публицист Курт Тухольский свидетельствует: «Илья Эренбург был единственным писателем, который в книге «Die heiligsten Güter», выпущенной издательством «Малик» в Берлине, указал пальцем на Ивара Крейгера перед самым его крахом. Крупные финансисты были возмущены, они содрогались, читая его книгу: «Что может понимать в этом какой-то литератор?» И опять-таки следует подчеркнуть их глупость, близорукость, отсутствие инстинкта и неоправданное игнорирование. Раньше человеческая глупость аккумулировалась в военном сословии, теперь же — в хозяйственном… Если бы Ивар Крейгер был еврей — тогда понятно, если бы Ивар Крейгер был маленьким бухгалтером — тогда понятно. Он был, однако, крупным предпринимателем капиталистической системы…».20
Книгу, о которой пишет Тухольский, в Москве не издали. Этому противилась не одна только цензура — ортодоксов хватало; в 1930 году Георг Лукач (немецкий философ и теоретик литературы, работавший в Москве) писал в «Moskauer Rundschau» («Московское обозрение») о слепоте Эренбурга перед лицом самых больших событий современности: «Он видит их детали, но только детали. И потом видит их глазами лакея. «Для камердинера нет героя», — цитирует Гегель популярную пословицу, добавляя при этом: «Не потому, что герой не является героем, а потому, что камердинер является камердинером». Это банальное лакейское суждение о революции обрекает Эренбурга при всей его одарённости на полный провал в большом современном романе. Но именно такая неудача обусловила успех Эренбурга в Европе и способствует ему в его дальнейших успехах».21
Уже в статьях 1922 года Эренбург писал о немецких маргиналах. Похоже, однако, что в художественной прозе его мысль была свободнее; недаром в «Хуренито» он предсказал не только национал-социализм, но и Холокост, а в новелле «Пивная „Берлинер Киндль”» (1925) создал едва ли не мистический образ убийцы. В публицистике же Эренбург старался быть ближе к сиюминутной жизни; как и большинству читателей, ему не нравятся любые политические крайности, он от них, как теперь говорят, равно дистанцирован: «Ни у тех, ни у других нет своего собственного знамени. В дни уличных стычек мелькают международные символы — знак свастики и пятиугольная звезда. И тех и других мало. Огромное большинство берлинцев не верит в эти спасительные расписания»22 (4, 15–16). Но чувство тревоги все-таки не покидало Эренбурга: «Да, конечно, здесь жизнь еще не налаживается, юноши склонны к неврастении, писателей новых нет, а работе трестов мешают их же кузены — французские тресты. Но скучный абстрактный Берлин снялся с места, двинулся в ночь. Поэтому Фридрихштрассе темнее и страшнее Пикадилли или Бульвар-де-Капусин. Мне кажется, что тот, кто первый вышел, раньше всех дойдёт» (4, 16). Германия и в самом деле первой пришла к войне, но неизвестно, это ли имел в виду Эренбург. В очерках «Пять лет спустя» он писал о «голом физиологическом пафосе» нацистов, который порой превращает «сухую, мозговую, книжную страну, гордую железнодорожной сетью и густой порослью школ в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращой» (4, 55). Ощущение тревоги уже в 1930 году стало подавляющим: «Еще год назад Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресение на страницах книги или на экране, казалось, уже забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний…», и дальше уже однозначно: «Растёт ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, древнее безумие ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание… Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые» (4, 67–69). А в январе 1931-го рефреном очерка о Германии становятся слова: «Это конец». Картина страшная: «Так называемая «интеллигенция» мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фейерверк, издали — это трагедия, интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки <…> даже «непримиримость духа» <…>. Вблизи это просто запах палёной шерсти и душу раздирающий писк. «Стальная каска»,23 «Красный фронт»,24 «раз-два» у гитлеровцев, ячейки коммунистов…» (4, 74). Его вывод в октябре 1931 года безнадёжен: «Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, сначала мылит щеки и тщательно бреется» (4, 81); паритет нарушен: власть откровенно потворствует наци и преследует коммунистов; выбор сделан… Эренбург открыто писал о трагедии германского пролетариата: «Когда он потребовал право на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть» (4, 86); Эренбург не назвал всех виновников этого раздробления, лишь со временем все они были названы…
Внешне жизнь текла, однако, как обычно. 1930 и 1931 годы Эренбурги встречали в Берлине. 1930-й — у Георга Гросса (тогда-то и сделана упомянутая выше фотография), 1931-й — у матери Савича и его тётки (они оставались в Берлине до прихода к власти Гитлера, потом уехали в Америку, откуда мать Савича предсказывала сыну, имея в виду обоих фюреров: «Наш и ваш снюхаются…»).
А. Я. Савич рассказывала про встречу 1931 года: «Собирался круг друзей. Из Праги должен был приехать Роман Якобсон; пригласили профессора Ященко. Как все было чудесно, весело, шумно, вкусно; много разных напитков. Якобсон разошёлся, целуя всех подряд, и стильный ИГ очень выгодно выделялся на его фоне… Кто мог себе представить, что ждало Берлин через два года…»
-
-
-
-
АНТИФАШИСТ № 1 (1933–1945)
-
-
-
30 января 1933 года Гитлер был назначен канцлером; в феврале в Германии отменили все гражданские свободы и ввели цензуру печати; 5 марта нацисты выиграли выборы в парламент; 1 апреля началось официальное преследование евреев. Германия сделала свой выбор.
9 марта Эренбург писал в Москву своему секретарю: «Немецкие события отразились и на мне. Не только погибло моё издательство, но в нем погибли пять тысяч марок — мой гонорар от американской фирмы «Юнайтед артист», которая делает теперь «Жанну» и часть денег для меня передала „Малику”». (Гитлеровцы прибрали к рукам и те деньги Эренбурга, на которые наложил арест суд, и, поскольку эта история тоже связана с Германией, расскажем ее вкратце. В № 7 берлинского журнала «Tagebuch» («Дневник») за 1931 год Эренбург опубликовал очерк «Томас Батя — король обуви». Батю очерк Эренбурга разозлил, и, пригрозив редакции журнала судебным преследованием, он добился публикации своего гневного ответа Эренбургу, после чего благополучно подал на него в суд. 24 декабря 1931 года Берлинский гражданский суд в отсутствие обвиняемого рассмотрел иск обувного союза Бати к Эренбургу. Согласно иску, статья в «Tagebuch» содержала 12 необоснованных обвинений против Бати. Суд необоснованность признал и постановил взыскивать с Эренбурга судебные издержки, а также 20 тысяч марок за каждую последующую публикацию очерка. Вспоминая эти события, Эренбург писал: «Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждающие достоверность моего очерка… Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолёт Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришёл Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а Третьему рейху…» (7, 309).
20 марта 1933 года Эренбург публикует в «Известиях» статью «Их герой» (о Хорсте Весселе). Уже эта статья резко отличается от того, что и как он писал о Германии прежде. В 1922—1928-е годы Эренбург блистательно показывал многогранную социальную и интеллектуальную жизнь Германии, контрастные картины ее городов, ее литературы, ее искусства. Теперь сама эта жизнь, подчинённая расистской идеологии, внешне предельно упростилась. Эренбург мог писать о ней только со стороны, не вдаваясь в подробности. Из всего былого разнообразия германских тем остаётся одна — нацистское варварство; теперь Эренбург употребляет слово «они», не поясняя, имеются ли в виду нацистские громилы, или все стадо: идейные и одурманенные, бездумные или даже колеблющиеся. Эренбург сразу нашёл ту хлёсткую, убойной силы смесь сарказма и риторики, которой отмечена вся его антифашистская публицистика. Он обвиняет: «Они начали с петард. Они кончают поджогами, погромами и убийствами. Они не виноваты: они делают то, что умеют. Они переименовали «дом Карла Либкнехта» в «дом Хорста Весселя». Вот он — их герой: сутенер, виршеплёт, убийца из-за угла, воспетый старым похабником. Что же, каждому — своё» (4, 559—560).
Совпали: собственные, оскорблённые нацистами, национальное и эстетическое чувства Эренбурга, природа его литературного дара и официальная (хотя по сути все более формальная) интернациональная советская доктрина — такого Эренбурга пока что охотно печатали в СССР…
Два раза в жизни Эренбурга его публицистика обретала набатное звучание — антибольшевистская в 1919 году и антифашистская в 1933—1945-х годах. Не случайно герой романа «Хулио Хуренито», которого звали Илья Эренбург, из двух слов — «да» и «нет», в отличие от всех других персонажей романа, предпочитает «нет». Именно в резком, страстном отрицании ненавистного ему сильнее всего выражался публицистический дар Ильи Эренбурга. Недаром знавшая его с юности Елизавета Полонская уже в глубокой старости назвала его в стихах «мой воинственный» — такова была особенность его человеческой натуры и, следовательно, его литературного таланта…
В апреле–мае 1933 года в Германии публикуются черные списки подлежащих сожжению книг — в них все книги Эренбурга. Гитлеровская Германия для него закрыта (он проедет через неё лишь в конце июля 1940 года, и то по фальшивым документам). 26 мая 1933 года Эренбург пишет Юлиану Тувиму: «О Гитлере вряд ли стоит долго говорить. Это те явления, которые менее всего допускают обсуждения. Настроен я очень мрачно и, кажется, не без оснований. Я посылаю Вам две статьи, которые я напечатал о Гитлере и Розенберге. Если найдёте нужным, можете их использовать для польской печати…»
Лучшие писатели Германии эмигрировали из страны; со многими из них Эренбург виделся в Париже. Вспоминая свои литературные встречи 1933 года, Эренбург писал: «Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдёт и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы — и театральных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово» (7, 392). В другом месте, вспоминая, как его представляли писателям, к книгам которых он относился с благоговением, Эренбург назвал несколько имён — среди них Томаса и Генриха Маннов (7, 271).
В 1934 году в письме к Сталину Эренбург выдвинул идею широкого международного антифашистского объединения писателей, разумеется, включая цвет немецкой литературы, полагая, что объединение художественной интеллигенции важно не только для борьбы с европейским фашизмом, оно поможет и улучшению интеллектуального климата в СССР, потеснив ортодоксов. Парижский конгресс писателей 1935 года, в организации которого Эренбург играл самую деятельную роль, собрался на деньги, которые дал Сталин (конгресс был сочтен полезным). Понятно, что это была лишь иллюзия объединения — к 1939 году от неё ничего не осталось. В 1935 году проницательным умам на Западе казалось, что история не оставляет иного выбора — только между одним злом и другим. Но поскольку в 1935 году внутреннее тождество империй зла (завуалированной, трансформированной Сталиным и демонстративной, построенной Гитлером) было еще далеко не очевидно, Гитлер многим казался существенно большим злом. Генрих Манн писал 16 июля 1935 года брату Томасу о работе парижского конгресса: «Речи русских — Эренбурга, Алексея Толстого, Кольцова — были целиком посвящены защите культуры. Большего требовать нельзя».25
В 1934 году Эренбург написал: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».26 Эти слова ему приходилось повторять в Австрии и Сааре в 1934-м, в Эльзасе в 1935-м, в Испании в гражданскую войну 1936–1939-х годов. В его работе военного корреспондента были только два перерыва: с января по май 1938 года (когда в Москве шёл процесс над Бухариным и Эренбурга лишили зарубежного паспорта) и с апреля 1939 года (когда Сталин начал практическую подготовку к сговору с Гитлером, ликвидировав антифашистскую публицистику) по 22 июня 1941 года (когда Гитлер напал на СССР). Оба эти периода были смертельно опасными для Эренбурга…
Будучи свидетелем вступления гитлеровских войск в Париж, Эренбург из разговоров немцев на улицах и в кафе понял, каковы их последующие военные планы. Именно это позволило ему вернуться в Москву — он снова увидел для себя «место в боевом порядке». Началась работа над романом «Падение Парижа»; главы из рукописи Эренбург читал в московских клубах, пресекая попытки немецких дипломатов присутствовать на чтениях. Вторую часть романа запретила цензура; но, позвонив Эренбургу, Сталин дал понять, что разрешает ее печатать…
22 июня 1941 года (эта дата, как вспоминал Вениамин Каверин, была предсказана писателем достаточно точно) начался новый, беспрецедентный этап журналистской работы Эренбурга — ставшего первым публицистом антигитлеровской коалиции. Это его звёздный час. Полторы тысячи статей для центральных, фронтовых, армейских и дивизионных газет, для зарубежных агентств и зарубежной печати за годы войны сделали имя писателя всемирно известным. Об этой его работе восторженно отзывались самые разные авторы — Хемингуэй и Пристли, Гроссман и Неруда.
Одна из тем этих статей сформулирована Эренбургом предельно кратко: «Убей немца!». Смысл этого призыва абсолютно точен в рамках конкретного времени и пространства — речь идёт о гражданах гитлеровской Германии, с оружием в руках вторгшихся на территорию СССР. Одолеть врага, который уже захватил всю Европу (за вычетом Великобритании), можно было только не щадя собственной жизни, только напряжением всех мыслимых и немыслимых сил, когда все живут одним — выстоять и победить! Блюстители юридической чистоты текстов хотели бы, чтобы Эренбург писал «фашист» всюду, где у него было «немец». Но в реальных обстоятельствах Отечественной войны Эренбург писал так, как он писал.
Геббельсовская пропаганда на свой лад использовала публицистику Эренбурга, старательно лепя для своей паствы образ «кровожадного сталинского еврея». (В ход шло все — от сфальсифицированных призывов «насиловать немок» до плана уничтожения Европы в давнем фантастическом романе Эренбурга «Трест Д. Е.» — всего за несколько дней до крушения гитлеровского режима немецкая солдатская газета «Фронт и родина» использовала такой сюжет в статье об Эренбурге «Враг без маски»).27 В богатейшем военном архиве Ильи Эренбурга сохранилось огромное количество материалов (зачастую с грифом «секретно»), которые он в годы войны ежедневно получал из ТАССа. Это была информации из всей, включая германскую, мировой прессы и тексты радиоперехватов основных радиопередач в Европе (в Германии и Италии в том числе) и США (присылалось Эренбургу то, что могло быть ему полезно для работы, и, конечно, все упоминания его имени). Из всех этих материалов видно, как пристально следил мир за его публицистикой (печатавшейся и в советских изданиях и за рубежом) и радиовыступлениями. Едва ли не о каждом материале писателя (а это значит — почти ежедневно) германская печать и радио «информировали» своих граждан, изображая Эренбурга как «типичного представителя советских евреев, которые безгранично ненавидят Германию и немецкий народ».28 Разумеется, в своих статьях и выступлениях Эренбург выражал волю, в частности, и еврейского народа, которого гитлеровцы решили уничтожить, но — подчеркнём это — прежде всего он выражал волю советской Красной Армии, сражавшейся со смертельным врагом. Тысячи писем, которые приходили к писателю от фронтовиков, говорят именно об этом; солдаты-евреи были горды тем, что представитель именно их народа является самым любимым на фронте советским публицистом, но большинство писавших Эренбургу вообще не задумывались о его национальности. Между тем систематически тиражировавшиеся в Германии фразы о кровожадном еврее Эренбурге вбивались в головы слушателей, заставляя их думать, что, если бы не призывы Эренбурга, Красная Армия не стала бы уничтожать напавших на СССР немцев. Уже наступил 1945 год, а Геббельс все еще внушал читателям «Das Reich» и радиослушателям, что Каганович и Эренбург — «идеологические представители Сталина — виновники несчастья всего мира».29
Вспоминая военные годы в мемуарах «Люди, годы, жизнь», Эренбург писал: «Пропаганда сделала своё дело: немцы меня считали исчадием ада… Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее близких мне поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами» (7, 669–670).
В начале 1945 года Эренбург выехал на фронт в Восточную Пруссию. Спустя почти 20 лет он писал об этом: «По правде сказать, я боялся, что после всего учинённого оккупантами в нашей стране, красноармейцы начнут сводить счёты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия» (8, 86). Эти взвешенные (с учётом и внутренней, и внешней цензуры) слова были напечатаны в 1963 году. А вот в феврале-марте 1945 года, сразу же по возвращении с фронта Эренбург говорил об увиденном куда резче. В марте 1945 года начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ НКО СССР В. Абакумову вручили девять доносов на Эренбурга (три из них — от сотрудников газеты «Красная звезда», где Эренбург проработал всю войну, четыре — из Военной академии им. Фрунзе, где 21 марта он читал лекцию начальствующему составу, и два — от оперуполномоченных СМЕРШ). В доносах приводились заявления, сделанные Эренбургом о том, что советские войска политически плохо подготовлены к наступательной операции, не могут организовать порядка, в результате чего допускают самоуправство; бойцы тащат все, что им попадётся под руку; происходит излишнее истребление немецкого имущества; что вторые эшелоны Красной Армии находятся на грани разложения, занимаются мародёрством, пьянствуют и не отказываются от «любезностей немок»; комендантами немецких городов назначают случайных лиц, не дают им никаких указаний, в результате чего они занимаются только конфискацией имущества, добывают спирт и пьянствуют; кроме того, Эренбург говорил, что упитанный и нарядный вид возвращающихся с немецкой «каторги» советских женщин30 делает неубедительной для бойцов всю пропаганду на этот счёт. 29 марта эту информацию Абакумов доложил письменно Сталину, охарактеризовав ее как клевету на Красную Армию31; для большей убедительности были сообщены фамилии доносчиков.
Сталин, решая одновременно несколько политических задач, наказал Эренбурга по-своему, по-сталински. Он распорядился подготовить для «Правды» статью, в которой виновником возможных незаконных действий Красной Армии по отношению к немецкому населению объявлялся бы Эренбург. Так, 14 апреля 1945 года в «Правде» появилась статья «Товарищ Эренбург упрощает» за подписью начальника управления пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова; на следующей день ее перепечатали в самой популярной у фронтовиков газете «Красная звезда», всю войну изо дня в день печатавшей Эренбурга. Статья Александрова обвиняла писателя в недифференцированном подходе к немецкому населению, в пропаганде насилия и прочем. Имя Эренбурга впервые за годы войны исчезло со страниц советской печати.
Эренбург понимал, что дело не в Александрове. 15 апреля он обратился к Сталину: «Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчёркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливости» и др.) я подчёркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим мерилом, нежели гитлеровцы. Моя совесть в этом чиста». Сталин на это письмо не ответил. На фронте статья Александрова вызвала оторопь. Эренбург получил массу писем и телеграмм фронтовиков в свою поддержку. Гитлеровская пропаганда воспользовалась статьёй Александрова, чтобы 17 апреля 1945 года заявить: «Илья Эренбург изолгался до того, что был изобличён во лжи своими же собственными руководителями».32 На Западе статья Александрова была воспринята как сигнал об изменении политики русских в отношении Германии. «В Москве видят, — говорилось в одной шведской газете; перевод с грифом «секретно» сделало ТАСС, — что статьи, подобные эренбурговским, только дают оружие в руки геббельсовских пропагандистов и затрудняют раскол между немецким народом и нацистским режимом, которого русские желают добиться. Для создания новой в отношении России, абсолютно дружественно настроенной и верной Германии, по мнению русских, важно не допустить отождествления нацистов с немецким народом».33 Понятно, что ни сами немцы, ни Красная Армия в силу инерции сознания не изменились в такт этому политическому ходу.
-
-
-
-
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (1946—1967)
-
-
-
После войны у власти в Восточной Германии поставили людей, которых Эренбург знал и не любил. Это относится и к литераторам, осуществлявшим литполитику ГДР, — скажем, Бехеру или Бределю. (Еще во время войны известный дипломат К. А. Уманский писал Эренбургу из Мехико об интригах тамошней немецкой писательской колонии — Людвиг Ренн и др., — публично хвалившей публицистику Эренбурга, но тайком препятствовавшей ее распространению.) Однако официальное участие в Движении сторонников мира (единственная для Эренбурга возможность после войны бывать на Западе) требовало его контактов и с этими людьми. А. Я. Савич запомнила иронический рассказ Эренбурга о его поездке в ГДР, когда по протоколу он должен был присутствовать на приёме у председателя Госсовета В. Ульбрихта:
«В правительственную гостиницу к ИГ приходит секретарша Ульбрихта и просит пройти на приём. ИГ смотрит на часы и говорит: сейчас половина четвёртого, а приём назначен на 4, мне придётся полчаса стоять на ногах, а я уже не молод. Она продолжает настаивать: надо прийти заранее. Нет, говорит ИГ, я не пойду, я еще выспаться перед этим успею. И развязывает галстук, расстёгивает воротник. Посрамлённая секретарша удаляется и приходит за Эренбургом без пяти минут 4. На приёме к Эренбургу подходит чин и говорит: сейчас освобождается третье место налево от председателя, вы можете его занять на 6 минут. Эренбург занимает освободившееся место, зовёт официанта и заказывает рыбное блюдо. В течение 5 минут деловито чистит рыбу на своей тарелке. Приближается конец 6-ти минут, возникает некоторое замешательство.
В последний момент ИГ смотрит на часы, освобождает место и просит официанта перенести рыбу на старое место».
Нельзя сказать, чтобы к Аденауэру Эренбург относился сердечней; он разделял официальные и в значительной степени демагогические советские опасения по части милитаризации Германии и в своих статьях, естественно, поддерживал соответствующие советские инициативы. В мемуарах он признал свою долю ответственности за пропагандистское обеспечение сталинской «холодной войны», но уже в годы, которые с его лёгкой руки во всем мире зовут «оттепелью», Эренбург был очень аккуратен в этом; так, он ни словом не осудил берлинские выступления рабочих 1953 года и в мемуарах упоминает их сугубо дипломатично (8, 391)… В мемуарах бытовое благополучие Западного Берлина сталкивается с культурными интересами населения Восточного, как они, в свою очередь, сталкиваются с чиновничьей тупостью и произволом. Говоря о послевоенной немецкой литературе, Эренбург называет Брехта, Анну Зегерс и Арнольда Цвейга. Упомянув типичные западные нападки на них, он замечает: «Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс» (8, 291). «Некоторые критики» — это, конечно, характерный для «оттепельного» Эренбурга эвфемизм: имелись в виду партократы, руководившие культурой. Говоря о своём споре с этими «критиками», Эренбург посетовал, что горячился зря: «есть люди, которые умеют говорить, но не слушать» (8, 291) — это суждение о специфике руководителей культуры при социализме.
Послевоенные встречи и беседы с Брехтом были Эренбургу дороги; он пишет: «Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим. Такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, — не Парижа или Берлина, а некой страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приёмом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека» (8, 291—292). И еще одно существенное замечание, связанное с упрёком одного неназванного западногерманского автора в адрес Брехта: «Хитрость Брехта была хитростью ребёнка, и все его «расчёты» — просчётами поэта». Насчёт «расчётов» и «просчётов» Эренбург, наверное, мог бы это сказать и о себе.
Анна Зегерс, всегда защищавшая Эренбурга от нападок на него в СССР, не забывала, как он, по существу, спас ее в оккупированном гитлеровцами Париже (используя хорошие отношения с советским консулом, Эренбург добился нелегальной отправки Зегерс в свободную зону).
Следил Эренбург и за немецкой поэзией, причём в суждениях о стихах был достаточно широк — принимал и ветерана Стефана Хермлина (его русская книга вышла с предисловием Эренбурга), и молодого бунтаря Г.-М. Энценсбергера (на ленинградском симпозиуме 1963 года Эренбург защищал его от возможных нападок все тех же «критиков». — 6, 321).
Незадолго до смерти Эренбург принимал у себя дома Генриха Белля. Встреча была радушной и откровенной. Присутствовавший Лев Копелев вспоминал эпизод, рассказанный Эренбургом: «Недавно я встретил молодого немца, он стал мне доказывать, что в этой войне все стороны были равно жестоки, все народы одинаково виноваты. Это совершенно неправильно. Сталин обманывал народы. Он сулил им добро, обещал все только хорошее, а действовал жестоко. Но Гитлер ведь прямо говорил, что будет завоёвывать, утверждать расу господ, уничтожать евреев, подавлять, порабощать низшие расы. Так что нельзя уравнивать вины». Бёлль с этим согласился.34
В 1997 году в Карлсхорсте (Берлин) была проведена возбудившая общественное внимание выставка «Илья Эренбург и немцы».35 В контексте музейной экспозиции, посвящённой двум европейским тоталитарным режимам ХХ века, выставка позволила объективно представить жизненный и литературный путь Ильи Эренбурга, его связи с Германией. Приехавший из Цюриха германский издатель Хельмут Киндлер на открытии выставки напомнил собравшимся, в какой нелёгкой обстановке ему приходилось в начале 1960-х годов выпускать немецкий перевод мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (издание этой книги вызвало крайне враждебные нападки эсэсовских ветеранов и постыдную газетную кампанию в печати36 — забыв о печах Освенцима, требовали бойкота мемуаров; под давлением литературные критики ограничились поверхностными суждениями и грубостью).37 Помнится, говоря об этом, Киндлер не мог скрыть волнения. Он вспоминал, как Эренбург пришёл к нему в издательство с переводчиком, а когда после заключения соглашения он пригласил писателя к себе на ужин, Эренбург пришёл один и заговорил с хозяином по-немецки. Киндлер удивился, а Эренбург объяснил: с 1941 года он никогда не говорил по-немецки, но после сегодняшней встречи решил нарушить это правило…
Другого рода трудности (не нацистские, а советские) преодолевал в ГДР литературовед Ральф Шредер, осуществивший уже после смерти Эренбурга выпуск его многотомных сочинений в то самое время, когда в СССР издавать Эренбурга было практически запрещено…
Тема «Эренбург и Германия» все еще не принадлежит истории всецело — в этом убеждают и события 2001 года, когда Союз немецких женщин потребовал переименования берлинского кафе «Илья Эренбург».38 Так старые пропагандистские клише оказываются весьма действенными (в этом, увы, убеждает и многое в российской повседневности…).
1 Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. 1956—1980. М., 1990. С. 165—166.
2 См.: Биржевые ведомости (Петроград). 1916. Утр. вып. 29 июля (11 августа).
3 И. Эренбург. Собр.соч. в 8 тт. М., 1991—2000. Т. 7. С. 188 (далее в тексте указываются лишь том и страница).
4 М. Алпатов. Воспоминания. М., 1994. С. 220.
5 А. М. Родченко. Статьи. Воспоминания. Автобиографические заметки. Письма. М., 1982. С. 117.
6 Большая берлинская выставка на вокзале Лертер (нем.).
7 «Илье Эренбургу с наилучшими приветствиями из Германии. Георг Гросс. Берлин.
11 июля 1926» (нем.).
8 И. Эренбург. Белый уголь или Слезы Вертера. Л., 1928. С. 97.
9 Все письма Эренбурга цитируются по двухтомному изданию (М.: Аграф, 2004; Т. 1. Письма 1908—1930 гг.; Т. 2. Письма 1931—1967 гг.).
10 На русском роман был издан в Берлине издательством «Петрополис» в 1930 г.
11 На литературном посту. 1927. № 20. C. 93.
12 Сообщено К. М. Азадовским.
13 РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3064.
14 — Пожайлуста, ветчины.
— Куском или нарезать?
— Пожайлуста, или (нем.).
15 Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь на ногу (нем.).
16 Игра слов: Mahlerin — художница; Gemahlin — супруга (нем.).
17 Вечерняя Красная газета (Ленинград). 1927. 4 мая.
18 И. Эренбург. Белый уголь, или Слезы Вертера. Л., 1928. С. 98–99.
19 Руль (Берлин). 1928. 19 декабря.
20 Цитирую по выписке, сделанной для Эренбурга К. П. Богатыревым.
21 Цит. по: Russen in Berlin. 1918–1933. Eine kulturelle Begegnung. Hrsg. von Fritz Mierau. Leipzig, 1991. S. 426.
22 Имея в виду особую склонность берлинцев к отсутствовавшим в то время точным расписаниям, Эренбург трактует слово «расписание» расширенно — применительно к укладу жизни.
23 Имеется в виду «Стальной шлем» — монархический военизированный союз бывших фронтовиков, созданный в 1918 г.
24 «Красный фронт» — левая организация фронтовиков.
25 Цит. по: Г. Манн — Т. Манн. Переписка, статьи. М., 1988. С. 249.
26 И. Эренбург. Границы ночи. М., 1934. С. 38.
27 Front und Heimat. 1945. Nr. 99. S. 7.
28 Радиоперехват 20 октября 1944 г. // РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 161.
29 Там же. Л. 169.
30 Речь идёт о женщинах, отправленных в Германию на принудительные работы.
31 Новое время (Москва). 1994. № 8. С. 50—51.
32 РГАЛИ. Ф.1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 200.
33 Там же. Л. 207.
34 Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. 1956—1980. С. 165—166.
35 Идея проведения выставки принадлежала проф. Петеру Яну, литературная концепция — Э. Пассет и Р. Петшнеру. Среди обстоятельных откликов прессы на эту выставку, затрагивающих проблему «Эренбург и немцы», отметим: «Neues Deutschland» (28.11.1997); «Berliner Zeitung» (3.12.1997); «Der Tagesspiegel» (10.12.1997); «Die Zeit» (12.12.1997); «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (15.12.1997).
36 См. например, номера «Soldaten-Zeitung» за май-июнь 1962 г.; заголовки напоминали геббельсовские: «Убийца без маски», «Величайший мастер массовых убийств во всей истории человечества». Эренбург ответил на это статьёй «Сказка не про белого бычка» (Литературная газета. 1962. 25 октября).
37 См., например, статьи Ф. Зибурга в «Frankfurter Allgemeine» или Д. Циммера в «Die Zeit».
38 Об этом был прямой репортаж из Берлина по российскому телевидению; удручает, признаться, не столько даже интервью представительницы Союза немецких женщин, сколько абсолютно беспомощный комментарий московского корреспондента.
© 2006-2021, ЗАО «Журнал „Звезда”