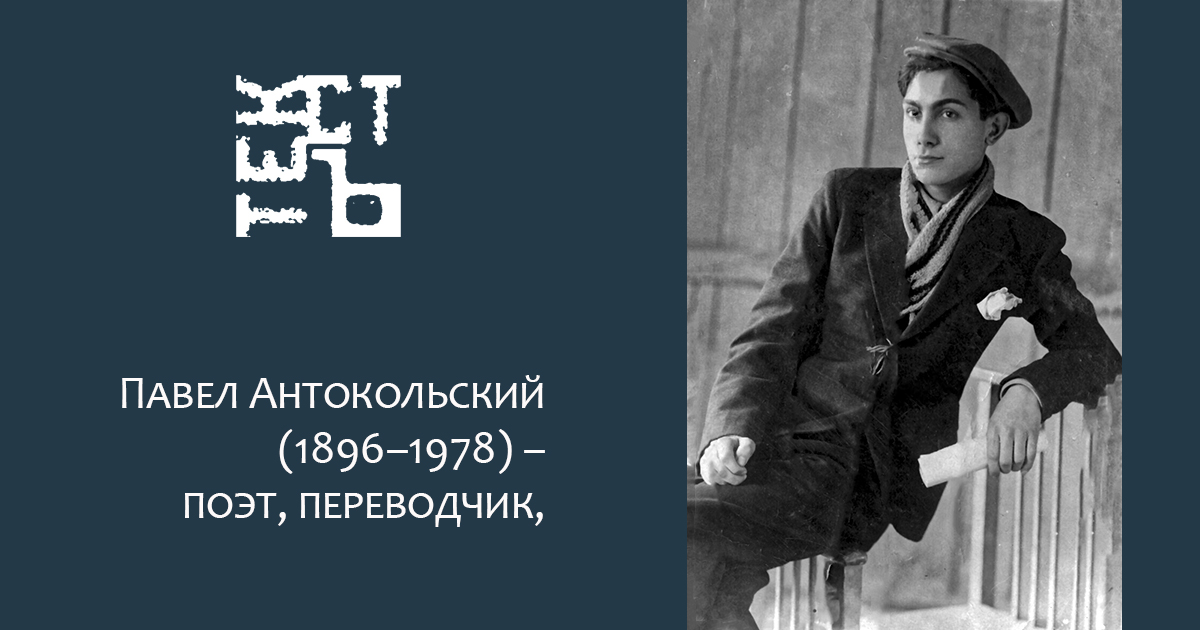* * *
Заката ходят снегири,
Сугроб цифирью зачернили.
На Кировской душок ванили
Из магазина «Чай» сквозит.
И от зари до фонарей
Всего минут пятнадцать ходу,
Я переулками в охоту
Кварталы снега прохожу.
А в них пустоты всех ушедших
Хранят былые очертанья,
Так небом, если рухнет зданье,
Хранится долго силуэт.
Пайка
В стране моей не велено грустить.
Поэзия так радостно бездумна,
Что средь веселья хочется спросить:
– Подружка, а ты, часом, не безумна?
Есть времена, в которые не быть,
Чем вкупе славословить шумно –
Спасение. Да что там говорить!
Гуляй, колпак! Бей, колоколец бубна!
Кто выбирает хлеб – получит хлеб.
Не выбравший его – нелеп,
Ворона белая, и головою вертит.
Ты пайку получи свою, едок,
А птичий труп запороши, снежок, –
Дружок и спутник безымянной смерти.
* * *
Эй,
Опричники!
Зубы. Смех.
Княжьи доченьки –
Эх!
Прядью шёлковой –
С голенища грязь.
Плетью щёлкает.
– Что ты, князь?
Эй,
Опричники!
Ой, да ах!
– Челобитчики?
В пах!
Элегия
Как происходят вечера?
Луна восходит, как вчера
Она садится на карниз
И, ноги свесив, смотрит вниз,
На город.
С балконов свесился народ –
Поёт и курит, и кричит.
А вот совсем наоборот –
Он не поёт, она молчит –
Чета, считают кирпичи,
Раскиданные у ворот.
Мужчина в комнату идёт.
Включает скачущий экран –
И голос диктора звенит –
И Ватикан,
И клан,
И план…
Бульдозер
И подъёмный кран.
На рычагах экранный парень
Играет словно на гитаре,
А во дворе кричит татарин:
– Ай, Сталин, ай, товарищ Сталин,
Ты на кого же нас оставил?
И свадьба –
«Горько!» с потолка,
Как штукатурка гопака.
И снова – «Горько!»,
После – полька,
А справа – восемнадцать арий,
Полёт валькирий или фурий –
Девичник профсоюзных дам.
И гаснут истины реклам,
И под татарские заклятья
Плывут полночные кровати,
Скрипят уключины тахты.
И злоба нищеты, тщеты
Нисходит в чрева
Под музыку любви напева.
Преображение
В таверне отворились с шумом двери…
/Из песенок детства/
В таверне суета и шум, и гам,
Обслуги безразличие и хамство,
И пальмы в пыльных кадках по углам
Венчают это злачное пространство.
Но с жизнью примиряет натюрморт:
Дрянцо-винцо в копеечном бокале,
Нож, указующий на море, порт,
Вдруг отразив светило, засверкали.
И спектр стекла на скатерти, металл,
Отбросивший мерцающие пики, –
Неслышный праздник, вечный карнавал
В связи со светом, таинством великим.
Пьеса игры
Судьба летит под крик «Ура!»
В тартара – ры
И даже – ра.
Игра,
Игру,
Игрой,
Игры!
– А мне – хоры…
Летят шары,
Сшибаясь костяными лбами,
И дыры в душах от жары,
От распри меж материками.
Несутся по полю шары,
Сцепленьем щёлкают вагоны –
На стыках – ох! –
И стоны –
«Ах,
Ты, Марусечка…» –
Магнитофоны.
Транзистор где-то в животах,
В аппендиксе скорбеет Бах,
А чрево медленно вещает
И завтра дождик обещает.
Совсем другое сообщает,
Танцуя, столбик мошкары:
Игры…
Игры – ы…!
Экран высвечивает и́кры –
Ног женских плещут осетры,
Звериный вдох и слабый выкрик…
– Вам шах –
Же-три!
Игры, игры – ы!
И все –
И сед, и млад,
Сосед – науки кандидат –
Кричат:
– Даздрабанзавиват!
Финал иль середина пьесы –
Не всё ль равно? –
И стюардесса,
Красой блистая, словно смерть,
Идёт в халатике повесить,
Немея, лифчик на забор.
Две чаши ветерок мотает,
Петлёю – нежная тесьма…
Как поиграли мы, Майданек?
Как поиграли, Колыма?
Лебедь
Сначала это белое пятно
Сетчатке чуждо и определенью,
Но медлит взгляд, свет чередуя с тенью,
И птицей дремлющей становится оно.
Взгляд делает вполне доступной вам
Грань тёмную меж телом и волною,
Где облако, плывущее по зною,
По отражённым заплясало деревам.
Тень лебедя и ярче, и мощней
Мерцающего облака и веток,
Вобравшая весь летний сонм расцветок,
Но беломраморность преобладает в ней.
.
Едва ли вам видны смещенья масс
Воды и пробудившегося тела,
Но вот – высо́ко голова взлетела,
Пронзительно горит её змеиный глаз.
И лебедь разрывает зелень вод,
Как будто рвёт земное притяженье,
Но нет ещё полёта, есть движенье,
Где, словно в коконе, и заключён полёт.
И телу так неловко-тяжело,
Так неуклюжи первые усилья,
Как мокрое бельё хлопочут крылья,
Но шею хищную спрямило и свело.
Густеет синий воздух у крыла,
Даёт необходимую опору
Паренью по свободному простору,
И, кажется, душа свободу обрела.
Московский запах
не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно
я даже не знаю жива ль и где ты вообще находишься –
занесло на Колхозную делом бумажным –
справка выписка что ли – а за ними куда как находишься
вдруг запах ударил – и словно собаку
повело закружило – из жизни которой меня окликают? –
и пешеходы спешащие сзади и сбоку
что-то бурчат недовольно и локтями подталкивают
запах бил всё острей превращаясь в эпоху
заволглых дверей и домов окраины деревянных
в рыжий свет абажура и чёрного хлеба краюху
и горбатился толем сараев дровяных и дырявых
там любовь отпускала Тамарка – белокурая курва –
за деньгу за продукты и мануфактуру –
власти шли за бесплатно – участковый – тот первый
а за ним и помельче начальство – князья жилконторы
запах вдруг превращался в хриплую песнь патефонную
в Первое мая и танцы стол клеёнчатый водку сучковую –
Рио-Рита – на протезе Ефремыч отплясывал со своею законною
а Тамарка хмелея от чарки всё подмаргивала участковому
вор в законе Валера грозил ей – водил подбородком
бухгалтерша Женя – кликуша – зашлась и задёргалась в трансе –
Сталин! Сталин родной! – заверещала эта карлица и уродка
сделал ручкой Валера Тамарке – поклонился – и восвояси
не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно –
как на свалке там за сараями – в тьмище прогорклой –
возвращаясь с катка – как морозно нам было и страшно –
белое тело тамаркино с перерезанным чёрным горлом
ах каток! – огоньки – падэкатры звенят с падэспанью –
как ты билась без слёз прижимаясь губами-коростой
как тебя оттолкнул задыхаясь твоей или тёткиной шалью
этот запах глотая – ненавистно-родной – нищеты и сиротства
Любовь
Я ждал, я предугадывал тебя.
Наверно так слепые от рожденья
на свет идут, открыв ладони и скорбя.
О, лепет пальцев – бег прикосновенья!
Пустыни тьмы, как сны без снов,
на ощупь мир – бездарная скульптура,
скрипит каркас его основ –
без музыки клавиатура.
Какая мука – где-то свет –
знать это и не знать прозренья
и день, и год, и много лет…
О, лепет пальцев – бег прикосновенья!
* * *
С. Г.
Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.
Мне принесли друзья вина,
Когда душа со мной прощалась.
А я смотрел в проём окна,
И в нём столица помещалась.
Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.
Ах, женский плач! Невыносимо.
Я по натуре мягкосерд.
По телу полон, мастью сед.
А вот мой друг похож на мима.
Но строг, в очках, велеречив:
– Пойми, необходим разрыв, –
Он говорил, – всё объяснимо:
Есть быт – критичности порог.
С душой своей ты не критичен.
Ты нашим веком ограничен,
С душой в нём душно, видит Бог.
А, впрочем, можешь с ней остаться,
Коль трудно с ней тебе расстаться.
Я говорил вам – друг мой строг.
Мой строгий друг открыл вино.
Второй смотрел на свет стаканы,
Насвистывая непрестанно.
Мой строгий друг открыл вино.
Он так серьёзен, что смешно,
Но я вышучивать не стану.
Мой строгий друг открыл вино,
Второй смотрел на свет стаканы.
Сретенка
Памяти М.А. и М.Р.
Давно, вчера, насупротив «Урана»,
Сей кинотеатр, кажется, снесён,
Пивной сооружён был павильон –
Советских служащих уютная нирвана,
Где влага била в кружки из-под крана,
Мы, три товарища, чуть старше — он
/Пол-литра извлекалась из кармана/:
– Культ… И культур… – гудели в унисон.
И вот легли на сон или уснули –
Тот, старший, высоко, в Гиват Шауле.*
Один из троицы – в очках и рыжий –
Истаял, как туман, в цветном Париже,
Хотя ведь только что отпил из стакана´
И подмигнул буфетчице. Она…
-------------
*Кладбище в Иерусалиме
Официантка общепита
Она парит в парах похлёбок,
Она летит а ля Шагал,
И ноги брызжут из под юбок,
Пол стонет в такт её шагам.
Майоль ваял её Помоной,
Отъяв тарелки с гуляшом,
Отбросив фартучек зелёный,
И совершенно нагишом.
Кустодиев плеча и пястья,
Мизинчик томный утолстит,
Напишет самовар и счастье,
Кота и ямочки ланит.
А Рубенс так её напишет:
Средь зелени сей габарит
Вина янтарного и вишен
Вальяжно дышит и лежит.
Она сработана на славу,
Цирцея отроческих снов,
И всласть справляет с ней забаву
Лихой райвоенком Брунов.
Чердаки любви
Подъезда стихи,
Кошачьи глаза,
Вдогонку гремит
Молодая гроза.
Как шатки перила,
Как тонко звенят,
И звуки металла
Сердца леденят.
Мы в мире ночном
Над ареной пустой,
Над городом спящим,
Скользящей стопой
По маршам крутым
Летим, и чердак
Дверь отворяет
В полу́ночный мрак.
И кошки, как будто
Хор а капелла,
И ты, освещённая
Молнией белой.
Ломберный стол
/Из апокрифов биографии/
Чуть потемневшей бронзой обрамлён,
И инкрустация цветами вьётся –
Морозцем Петербурга пахнет он –
В ночи аукнет – тотчас отзовётся
Квартира игрока. Поэт и солдафон,
Чей бравый ус торчит, дрожит, смеётся,
И дама бита… «Боже! Фикельмон!».
– Нет, нет. Увольте! – и не остаётся.
И санок бег по снежной мостовой.
Минул швейцара. Пыльно под софой.
Что будет стоить это «vis a vis»
Господь лишь знает, но… благословляет.
И русская словесность пир любви
В особняке посланника справляет.
* * *
Тщеты своей улыбчивый оскал
Мне мир преподавал самозабвенно –
То в бешенстве Кавказом он сверкал,
То в прачечной стихал водою пенной.
Он удивлял, пьянил, ворожбовал,
Пытал своею красотою тленной.
Я горечь совершенства узнавал
По некому присутствию – мгновенно:
Смерть – равный гость на пире бытия.
Так дырбалызнем, смертынька моя,
Под «Городской» сырок за детским садом,
Поговорим за жисть в немой стране…
Что? Истина? Возможно и в вине,
Но завсегда с тобой, подруга, рядом.
Октябрь уж наступил…
«Куда ушёл ваш китайчонок Ли?»
Из песенок А. Вертинского
Как низко чайник наклонён над плоскостью стола,
И китайчонок Ли ведёт понурого вола,
И на фарфоре голубом колеблется тростник…
Откуда-то из-за Невы неясный звук возник.
Октябрь уж наступил, и лёд – на луже во дворе,
Лицо хозяйки самовар морочит в серебре;
В столовой сумрак, жар печей и небольшой угар,
И долго стонет и дрожит часов сухой удар.
Откушает мужчина чай и отшвырнёт шлафрок,
И затрещит автомобиль, и закричит рожок.
Хлопки метущейся пальбы летят издалека –
Когда приходит к власти смерть, то эта власть крепка.
По убиенным на Руси не принято тужить,
И даже китайчонок Ли пойдёт ЧК служить.
Хозяйка разливает чай, красива и смугла,
И низко чайник наклонён над плоскостью стола.
Дело № 17394
Унквд СССР по Краснодарскому краю
Памяти Константина Михайловича Кузнецова
Ткаченко — лейтенант, педант и дока,
Возможно, жив служивый до сих пор,
На жирной пенсии седой бугор –
«Шпионам польским» всяко лыко в строку
Вставлял, мотал расстрельный приговор,
Ткал полотно и сеть кидал широ́ко:
В неё мой дед попал в мгновенье ока —
Худой и с тросточкой на фоне гор,
Улыбчивый на пожелтевшем фото.
А дальше – исполнителей работа,
Подвал да желобок для стока,
Где мужички с похмелья сладят кару,
Когда трамвай и алый свет с востока
Пойдут гулять-бренчать по Краснодару.
Тост
К портрету Л. В. Никитиной
кисти Н. П. Богданова-Бельского
Всё женщины… Я поминаю дам.
Не говорю «Прекрасных»… Как-то вам
в погостах ленинградских спится,
на кладбищах Парижа, Рима, Ниццы
и по сибирским ямам и углам?
Я пью за вас, блистательные тени,
за вальс, за ваши руки и колени,
и гордость длинношеих лебедей,
за ту осанку вольную людей,
которая не подлежит подмене.
Вы были несравненны, видит Бог.
Когда взводился равенства курок,
вы не равнялись – присно и вовеки –
любой пустяк, корсетный ваш снурок,
для равенства тяжеле Каабы Мекки.
Живущий неравним. Лишь неживые
в эпохи смутные и ножевые –
суть равенство и чистота доктрин.
Что вам пенять за хрупкость ваших спин,
когда мужицкие хрустели выи.
Живущий неравним. И потому мертвы,
вы – воздух, мотыльки Пальмиры, вы,
загинувшие в ней, в чужих столицах,
и отзвук ваших лиц напрасно в лицах
лимитно-вырожденческой Москвы
или провинции Петрова града
отыскивать сегодня… И не надо,
и что там говорить… Я поминаю дам,
я поднимаю горестный «Агдам»*
за смех ваш и улыбку, мех наряда,
за сентимент и томность взгляда вдаль,
за гарус, парус, шляпку и вуаль,
слезу, сбежавшую на книгу, вздохи,
когда шарманщик вам хрипел «Трансвааль»,
прозрев насильственный финал эпохи.
--------------------
* «Агдам» – дешёвый советский портвейн.
Чистые пруды
Едва узнал я девочку катка
В матроне тучной с цацкой Нефертити,
Кричавшей: «За картофель оплатите,
А после отходите от лотка!»
.
Ах, Бог мой, как она была легка,
Как вспыхивали канители нити –
Летящие московские снега,
Так далеко от нынешних событий.
Ты ещё читаешь Блока
То ли смерть, то ли девка шальная,
Появляешься из-за угла —
Эх, ширнутая, вдрызг распьяная,
Жизнь свою, как дитё, заспала.
По Кудамму с тобой вечерами
Я вожжаюсь и пью до утра,
Заневолен кнайпами-барами,
Кровью тягостной болен, сестра.
Это звон её: красные мальвы,
И за церковь – тропа под откос,
Где медичка в тюрбане марлевом
Пионера целует взасос.
Звон клубится эхом под сводом,
Старый Курский припомнит вокзал,
Как советский рассвет за городом
В тупике электричку застал.
Пахнут мальвы горькою прелью,
Страстью, мускусом, по́том… Потом
Две лошадки – серая с белою –
Бьют подковами в утре пустом.
То ль на том, то ль на этом свете
Кучер, в белый обряженный фрак,
Любопытствует: «Вы поедите?»,
Трогая свадебный катафалк.
* * *
Ни пить, ни петь почти не стоит,
Но кельнер пред тобой стоит.
Когда ты загнан и забит,
Когда тебя в тепле знобит
Полночной кнайпы –
Сядь за столик.
Послушать тишину? Навряд.
Здесь кружки бродят невпопад,
Хохочут девицы до колик,
В табачных плавая клубах,
В бровях серёжки и пупах.
Возьми холодной водки шкалик
И слушай: снег шуршит на поле
Ваганькова ли, Вострякова…
За тех, кого не встретишь боле,
Ты выпей. И наполни снова.
Посвящается Швейцарии
Да, что-то кончилось. И кошка под дождём.
Мы смерть ещё немного подождём
И соскользнём в пейзажик Тинторетто,
Где лето италийское и Лета,
Или взлетим качелями Ватто,
Да только не про нас всё это.
А даден тихий сызмальства и цвет, и свет,
Тоскана и Прованс нейдут в сюжет,
Вся жизнь проехала на Севера̀х,
И лица снег отбеливал и страх,
Метель кружилась в рыжих абажурах,
Москва мела по тротуарам прах.
Всё позабыто всеми. Ну и поделом.
А помнить — можно двинуться умом.
Я двинулся пока в столицу готов,
Здесь в питие чуть меньше оборотов,
Но с этим помириться я готов,
Когда сбираюсь за грибами в Máhlow.
Тебя какой-то пригласил концерн-интерн,
И ты, по слухам, обживаешь Берн,
А, может, Цюрих – всё звучит, как не́быль,
Но в Цюрихе я был (а в Берне не был):
Река, что-то ещё, кораблик плыл,
Как раз в Прованс я через час и о́тбыл.
Откуда взялся он с вином «Шато-и-кем»,
В квадратном свитере советский Хем,
Тебя пленивший и твоих товарок
Тому назад годочков эдак сорок?..
Да, жизнь кончается. У кошки мокрый бок.
Я канарейку шлю тебе в подарок.
Берлинский автобус
Семёну Гринбергу,
автору книги стихотворений
«Иерусалимский автобус».
Автобус номер сто пересечёт Берлин –
Маршрут от Запада /от Zoo/ до Востока –
Мелькнёт Курфюрстендамм, где молодой Набоков
Велопрогулками лелеял дар и сплин;
Минуется Потсдамерплац, затем рейхстаг,
Ловлю себя на том, что снова жду Покровку,
Сойти у скверика, но эту остановку
Я здесь ищу-свищу – не отыщу никак.
Но отыскал кафе, точнее пыль и прах,
Там, где витийствовал и буйствовал Бугаев —
Тургенева ушла, его пасла другая,
Умчавшаяся с ним в Москву на всех парах,
В тот город, где с тобой о строчках разговор
Мы давеча вели до смены декораций –
До иерусалимских сосен и акаций,
Берлинской стенки и стены альпийских гор.
По прошлому блукать, скажи, какой резон?
И прощевай, мой град – лубя́ная столица…
Была да сгинула. А это что за лица?
Эпоха кончилась. Открыт другой сезон.
Возможно бархатный. Но холод так же лют.
Движение, mein Herz! Ты в хедере со шваброй,
Я в Deutsche Schule с ней… Так вверх штандарты как бы!
Словесности родной из-за бугра салют.
Вчера раскладывал, как двинуться к тебе —
Пусть нынче дороги и дроги, и дороги! —
Чтоб снова поболтать о строфике и слоге,
Ну и насчёт цезуры на второй стопе.
А ветер вечности, увы, сильней сквозит,
С германским путаясь, в салон влетает,
И в дрёме транспортной жизнь, как пространство, тает,
Затвердевает таханою мерказит.*
-------------------
* Тахана мерказит /иврит/ —
центральная автобусная станция.
Туман в Гамбурге
Памяти Ю. К.
Ползёт по готике туман,
Как бы парок московский, банный,
Но даже в яви иностранной
Недолго тешит нас обман.
И град кривой, мне Богом данный, –
Холодный сон про Тёплый стан.
Перекликаются суда –
И громогласно, и железно.
И что гадать тут? Бесполезно.
И даже думать, господа,
Какой же чёрт загнал сюда,
А, может, ангел мой болезный?
Куда белёсые бадьи
Плывут ослепшие, чтоб слиться
С туманом, и не возвратиться
Ни в порт, ни на круга свои?
Не потому ль сегодня птицы
Как бы хмельны и в забытьи.
Куда уходит человек,
Едва успев от сна очнуться,
И, оглядевшись, содрогнуться –
Ан камешек да имярек.
И на Москве метётся снег –
Хватило б сил не оглянуться!
А жизни сей халабала
Идёт, как фрау Шмидт за снедью,
Пронзительною готской медью
На кирхе бьют колокола –
Вот здесь твоею страшной смертью
Меня Россия догнала.
Воспоминания на Brusendorfer Strasse
(Берлинская баллада)
Жизнь продолжается – сегодня понедельник,
На Brusendorfer Strasse тишина,
И часового нет, и только Бог-подельник
В процессе этом. И ещё – луна.
Царя лесного зов сквозь Sturm und Drang и ельник,
Поэт мнит перевод, а ученик-охальник
С Полиной романтизмом дотемна
Неутомимо занят, и она
Увлечена отнюдь не гётовой балладой,
Но отроком смешливым, с коим сладу,
Ну, просто нет… – Изыди, Сатана!
Отсель мне Трифоновская видна
На горке с Трифоном и домом деревянным,
Где коммуналки тонкая стена –
Стук-стук! – аукнулась вторженьем окаянным.
Комедь стряслась в ночи, а время было оным,
Закон, вдруг воссиявший серебром погонным,
Полину испугал – так сделалась бледна! –
Любовь и жизнь, и смерть – всё смертная вина
В Московии моей… Какого же рожна?
И повязали, выдернув из сна.
Старлей вещал в ментовке языком картонным,
Стращал статьями и корил страной –
«Оскорблена соседка вашим действом шумным,
Нам жалится на вздохи за стеной».
И, подписав, шагнули в снег ночной,
Вкруг редких фонарей светящийся зелёным,
И жёлтый цвет мерцал, то вдруг иной,
Снег устремлялся вверх пробегом окрылённым
К потухшим окнам – черноте глазниц,
Позёмкой шелестел по улицам пустынным,
И упадал слезой с твоих ресниц.
В державном униженьи нет границ.
Ты плакала навзрыд, как дети, – безутешно.
Ступени шаткие пролётов лестниц
Скрипели, и ворчал соседкин шпиц…
Мы как бы возносились над землёю грешной.
И вот добравшись до твоей скворешни,
Сидели долго и безмолвно в тьме кромешной,
Пока ты не зажгла настольный свет:
Тахта и коврик, стул и стол, буфет –
И знамо – как предмет сечёт предмет.
Трофейный коврик – Запада рассадник.
На нём – Ich Liebe dich! – стих записной.
А царь лесной? Нема. Есть, правда, всадник
На взмыленном коне и замок под луной.
Я слово позабыл. А должен был сказать!
Теперь, спустя полвека, ручку взять
Так не с руки… С чего начать письмо?
Спасибо за приют? Что там «спасибо»…
Ich Liebe dich! – за тыщу вёрст – Ich Liebe!
Я вас любил. Любовь ещё быть мо…
Прощание с друзьями*
Как странно, я всё жду. Всё кажется придёшь,
Тесёмки обветшалой папки расплетёшь,
И, словно в Тёплом стане, как когда-то,
Прочтёшь – заснеженный и бородатый –
Стихи… И, право, что тебе пивной галдёж?
Я продолжаю жить в раздолбанном Берлине.
Его, столицу рейха, украшают ныне –
Объединение, но в нём прогал, зазор:
Объединенье — да, а единенье – вздор,
Но нынче Рождество, огни и снег, и иней…
Признаться, не видал баркасов здесь во льду,
И всё ж задумывал, и много раз в году,
Что забредём сюда мы, может статься,
И: «…Бюргерброй»… В разлив… В тени акаций.
Я эту кнайпу и зимой имел в виду.
Роятся мотыльки — рождественские свечи.
Ты что-то говоришь, подняв худые плечи,
И красит женщину свечей неяркий свет.
Три года как тебя на этом свете нет,
И два как нет её, и времечко не лечит.
-----------------------------
* Так называлась поэтическая книга героя этого
стихотворения, которую он сдал в печать перед
кончиной и не успел подержать в руках.
* * *
В Крым скользнуть за стрижами, а там
К монастырским пойду я воротам,
К разорённым, заросшим садам,
Мусульман переживших воронам,
Кликать юность свою и твою,
И увидеть сквозь душную хвою,
Что с тобой я всё там же стою,
И скала припадает к прибою.
Но за кадром осталась тщета –
Вот одёжка, на вырост пошита! –
Ни кола, ни коня, ни щита,
Толчея, нищета общепита.
Жизнь давно миновала зенит –
Время гонит водицу и пенит,
И мой сон эту бухту хранит,
Где, обнявшись, лежат наши тени.