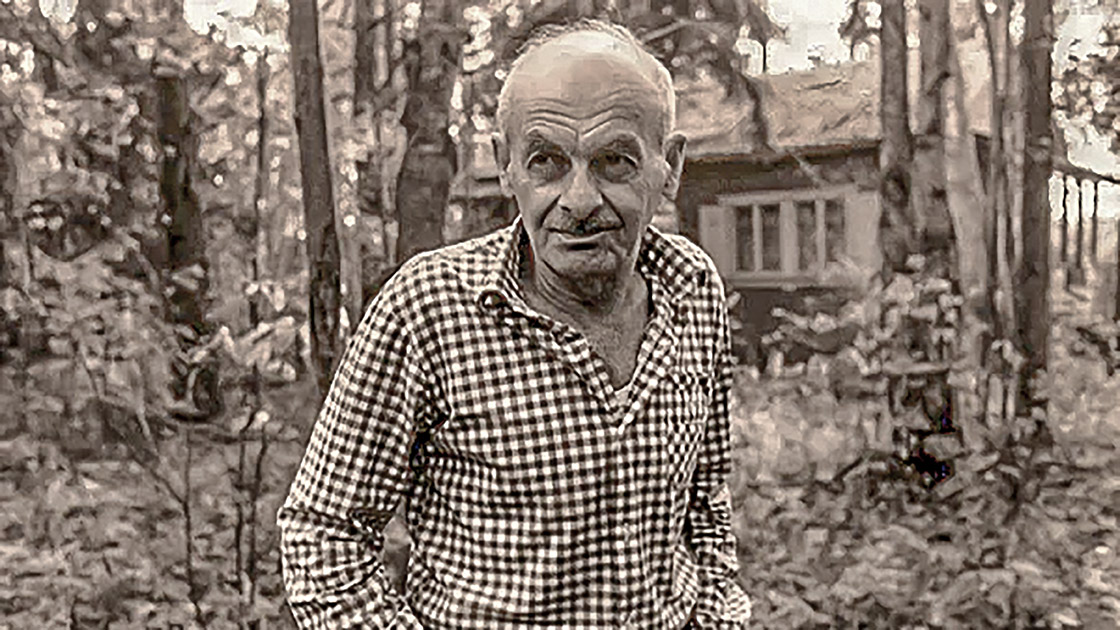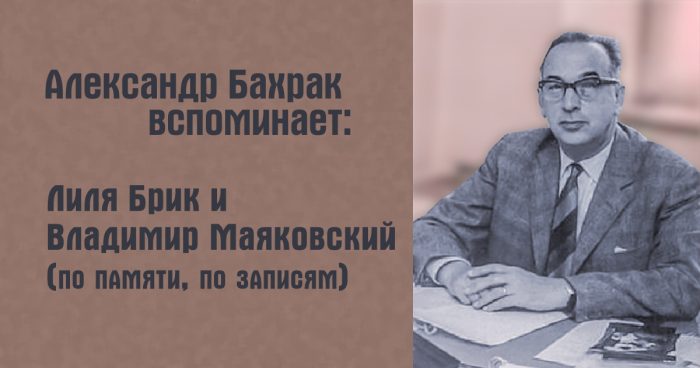
Было это в те баснословные времена, когда Москва еще прозывалась Белокаменной, а в одном из ее кривых переулков, в котором каменные дома еще перемежались с деревянными особнячками, проживало семейство выходца из Либавы Урия Кагана, состоящее из отца, матери и двух дочерей. По словам старшей из них, отец ее был юристом, но, из-за своего еврейства ходил в помощниках 25 лет, а в окружном суде выступали его помощники, давно уже ставшие присяжными поверенными. К этим сугубо лаконическим сведениям младшая дочь добавляла, что отец ее был также юрисконсультом австрийского посольства и что к нему обращались за советом приехавшие на гастроли и не поладившие со своими антрепренёрами австрийские акробаты, эксцентрично одетые шантанные певички, тирольцы с голыми коленками.
Между тем, кое-что во всех этих деталях, касающихся деятельности отца почтенного и по нынешним понятиям вполне буржуазного семейства, вызывает лёгкое недоумение, потому что дочь, повествующая о своём папе, упустила из виду, что в те дни никаких посольств в Москве не могло быть, а консультации, которые он мог давать австрийским артистам, едва ли оплачивались столь щедро, чтобы целая семья могла жить безбедно, дать дочерям солидное образование, иметь при них французских гувернанток, посещать заграничные курорты, а музицирующей матери семейства ежегодно ездить в Байрейт на вагнеровские фестивали. Кагановские дочери, очевидно, всегда были склонны к известной стилизации или чего-то не договаривали.
Но вот наступил 1905-й год, который был судьбоносным не только в истории России, но и в жизни старшей из кагановских наследниц, той, которая впоследствии стала в литературных кругах известна под именем Лили Брик. Учившаяся до того дома, она в этом бурном году поступила сразу в пятый класс частной женской гимназии. А ведь в ту пору революционные события накладывали отпечаток даже на школьную жизнь. Гимназисты и гимназистки сообща организовывали какие-то кружки, о чем-то в них ожесточённо спорили, шумели и выносили грозные резолюции.
Так, по признанию самой Лили, кружок, в котором она принимала деятельное участие, в числе других выставлял требование о предоставлении автономии Польше. Можно, однако, предполагать, что принятая кружком исторически вполне обоснованная резолюция до царского правительства не дошла. Во всяком случае, оно на неё никак не реагировало и даже не обратило ни малейшего внимания на тех, кто ее подписывал.
Следует уточнить, что Лилин кружок собирался в помещении женской гимназии, и хоть о совместном обучении тогда в Москве и разговора не было, кружок все же посещался и учениками соседних гимназий и его руководителем был избран восьмиклассник Ося Брик. Для того, чтобы сделать его биографию более красочной, Лиля, когда это стало полезным, утверждала, что Осю вскоре за революционную пропаганду из гимназии исключили. Другими словами, он еще в зелёной молодости пострадал за свои не в меру радикальные воззрения. Впрочем, довольно непонятным образом исключение из гимназии не помешало Брику поступить в университет и жить так, как жили тогда сыновья зажиточных родителей.
Отец Брика был владельцем сравнительно довольно крупной фирмы, торговавшей кораллами, и часто ездил по делам в Италию, прихватывая с собой сына, чтобы приучить его к ремеслу, а так как главным местом сбыта этих кораллов был Туркестан, то Осе приходилось не раз сопровождать отца в этом далёком по тем временам путешествии.
Капризы судьбы неисповедимы, и так случилось, что четырнадцатилетняя Лиля полюбила семнадцатилетнего Осю, но для того, чтобы оформить эти взаимные чувства, им понадобилась целая вечность, исчисляемая в долгие пять лет.
Как Лиля рассказывала одному из своих интервьюеров, в 1968-м году кончила она гимназию и настолько блестяще сдала математику, что после выпускных экзаменов директор гимназии вызвал к себе ее отца и просил его не губить математических дарований своей ученицы.
Однако и тут в Лилиных рассказах можно приметить некоторую алогичность. Она, мол, намеревалась поступить на математический факультет высших женских курсов Герье. но при этом добавляла, что евреек туда без аттестата зрелости не принимали. Но ведь общеизвестно, что в высшие учебные заведения без оного аттестата и лиц других исповеданий не принимали, причём такой обычай существовал не только в царской России. Странно и то, что, блестяще кончив гимназию, по ее словам, с круглой пятёркой (напомню, что в России существовала пятибалльная система), она искомого аттестата не получила и только годом позднее ей пришлось сдавать дополнительные экзамены при Лазаревском институте восточных языков, куда она намеревалась поступить для дальнейшего изучения математических наук. Довольно непонятен вопрос о существовании математического факультета в этом, посвящённом ориенталистике, институте. Впрочем, как известно, арабы изобрели не только цифры, но и алгебру.
Как бы то ни было, Лиля и после окончания гимназии не перестала увлекаться высшей математикой, настолько, что даже выписывала книги из Германии. Но очевидно, ни Гаусс с его теорией ошибок, ни Вейерштрасс с его математическим анализом не были достаточно убедительны, чтобы Лиля продолжала идти по пути Софьи Ковалевской. Она быстро убедилась, что ее математическое увлечение было ошибкой, хоть и не из тех, о которых она успела вычитать у Гаусса, и поэтому она перешла в архитектурный институт, тот самый, в котором уже училась младшая ее сестра. Сменив вехи, Лиля посвятила себя живописи и лепке и для усовершенствования на этом новом для неё поприще сразу уехала на какой-то срок в Мюнхен, имевший тогда репутацию северных Афин и усиленно, почти наряду с Парижем, посещавшийся русскими молодыми художниками.
Помогло ли развитию ее художественных способностей пребывание на берегах Изара, неизвестно. Известно только, что чуть ли не в день ее возвращения из Мюнхена она попала на спектакль Художественного Театра и в антракте случайно встретила Брика. На следующий день он ей позвонил, они встретились — я передаю ее слова — пошли погулять, зашли в ресторан, в кабинет, спросили кофейничек (воображаю, каково было выражение лица официанта, когда он подавал кофейничек посетителям отдельного кабинета), и Ося без всяких переходов попросил меня выйти за него замуж.
Лилины родители сняли для новобрачных четырёхкомнатную квартиру, из которой они почти не отлучались, если не считать деловых поездок в Туркестан. По словам Лили, уже тогда у нас были признаки меценатства. Выразились же они в том, что в эти утомительные поездки они брали с собой, неизвестно с какой целью, молодого поэта Константина Липскерова, автора довольно талантливого сборника стихов Песок и розы, стихов, которые, действительно, пропитаны воздухом тех отдалённых российских окраин.
По словам Лили, они сошли со спасительного парохода только после того, как для них был зажжён зелёный огонь, указывающий, что Брику не грозят непосредственные опасности и он будет пристроен. Поверить этому нелегко, но все же они вернулись, и тут, словно «deus ex machina», на их горизонте появился знаменитый тенор Собинов, в которого были заочно влюблены все российские девицы. Невесть почему, но он якобы протянул им руку помощи и каким-то образом, пользуясь своими связями, пристроил Осю к стоящему гарнизоном в Петербурге автомобильному дивизиону. Это было какое- то совсем необычное воинское соединение, пополнявшееся шофёрами-инструкторами, преимущественно из литературных кругов, отнюдь не стремившимися попасть на фронт. Кстати, службу в этом дивизионе весьма красочно описал Виктор Шкловский в своём «Сентиментальном путешествии».
У Лили от сердца отлегло, но все же из-за войны пришлось пойти на некоторые жертвы. Ося должен был прекратить работу в фирме отца, забыть о кораллах и перекочевать на берега Невы. А так как деньги на жизнь посылались родителями, то, не желая их чрезмерно обременять, Брики, хоть Ося и числился в нижних чинах, временно должны были уместиться в тесной двухкомнатной квартирке на улице Жуковского, и только три года спустя им удалось сменить ее на освободившуюся в том же доме шестикомнатную. О своих квартирах и об их величине Лиля вспоминала до конца своих дней.
Может быть, я с малосущественными и в общем ненужными штрихами, пользуясь тем, что рассказывала людям сама Лиля, вкратце излагаю историю ее молодых лет, но именно некоторые приведённые детали представляются мне крайне характерными для уяснения ее личности и для того, чтобы иметь достаточный материал для отделения Dichtung от «Wahrheit».
Замечу при этом, что по моим собственным впечатлениям, своего рода моментальным фотографиям, потому что по существу в моей молодости Лилю Брик встречал я считанное число раз и притом всегда в шумной компании, младшая ее сестра во многом значительно отличалась от старшей, несмотря на то, что семейное сходство их сказывалось не только во внешнем виде, но и в особом умении добиваться поставленной цели, какой бы на первый взгляд она ни казалась замысловатой. Ни одна из сестёр не останавливалась на полпути.
Эльза была внешне менее эффектна, чем Лиля, но зато была талантливее и энергичнее, много более работоспособна и более приобщена к маленькой жизни. Лиля, несомненно, была с ленцой, да к тому же в любых положениях считала себя барыней. Курьёзным образом, завела знакомство с Маяковским не Лиля, а младшая ее сестра. Когда ей еще не было шестнадцати лет, она встретила его у общих знакомых и поначалу он ошарашил ее своей жёлтый кофтой, повязанной большим черным бантом. Он был дерзок, огромен и непонятен, как непонятными казались ей его стихи, которые он декламировал громовым голосом. Но все это не могло не прельстить воспитанную в буржуазном быту барышню, и она из какого-то любопытства решилась пригласить его в родительский дом. Он появился с цилиндром на голове, больше всего напугав горничную, но вместе с тем вызвав некоторую подозрительность и у родителей, тем большую, что он стал чуть ли не ежедневно появляться в обеденные часы. Но он был настолько учтив и обезоруживающе вежлив, что родители быстро сдались и в их доме он стал своим человеком. Недаром Кагановская семья как-никак была из передовых и в кабинете отца беклиновский «Остров мёртвых» был заменён портретами Вагнера и Чайковского. Видно, мать семейства в музыке была оппортунисткой!
Но вернёмся к Лиле. Познакомился я с ней в те баснословные года, когда у каждого из нас еще все было впереди. Познакомился на какой-то многолюдной и пьяной вечеринке в ателье одного известного русского художника. Много с тех пор воды утекло, но я все- таки и по сегодня помню, как при моем появлении Лиля, точно она была центром пирушки, полулежала на какой-то тахте со сломанными пружинами, той самой, которая была много лет спустя воспроизведена в тринадцатитомном академическом издании сочинений Маяковского с сидящими на ней Бриком и Маяковским. Когда хозяин ателье подвёл меня к «именитой гостье», чтобы ей представить, она царственным жестом протянула мне руку, вызывающе приближая ее к моим губам. Вероятно, в своём знаменитом салоне мадам де Рекамье таким же жестом протягивала руку своим гостям. Но тогда в этом огромном и безалаберном ателье, в котором вместо мебели были прислонённые к стене и повёрнутые задом холсты, подрамники и множество ветхих музыкальных инструментов, служивших хозяину ателье для его натюрмортов, Лилин жест был в диковинку, не столько потому, что тогда я еще не привык прикладываться к дамским ручкам, но скорее из-за того, что он был сделан Эгерией того московского салона, постоянными посетителями которого, как я хорошо знал, были остепенившиеся футуристы, еще накануне совмещавшие свой футуризм со скандалом, и рядом с ними не окончательно раздавленные формалисты, вернее, та их группа, которая на короткий срок нашла тихую пристань в редакции новоиспечённого журнала Леф. А в этой среде едва ли практиковались утончённые манеры.
Но как-никак, в той богемной компании, в которой я впервые Лилю повстречал, она по праву могла претендовать на роль королевы. Она выделялась не только своей манерой держаться и какими-то в точности не определимыми признаками внешней породистости, но еще и своей, хоть и не парижской, но все-таки элегантностью, каким-то умением носить свои платья. А поверх всего — категоричностью и непререкаемостью суждений. Вступать с ней в спор, оппонировать ей должно было самому ее собеседнику показаться бестактностью, и этим сознанием своей особенности она легко заражала своё окружение. Между тем, строго говоря, это ее свойство надлежало принимать на веру и ему подчиняться, ведь ничего особенно острого или остроумного она не изрекала, да и все ее литературное наследство ограничивается весьма однобокими воспоминаниями о Маяковском, без которого имя ее кануло бы безвозвратно в вечность. Потому-то не казалось удивительным, что находившийся рядом с ней Маяковский, во всяком сборище стремившийся главенствовать и становиться точкой притяжения, в этот вечер, на котором, собственно, он должен был изображать роль почётного гостя, как бы съёживался, меркнул и если и отходил от Лилиной тахты, то исключительно для того, чтобы принести ей какую-то закуску или наполнить ее стакан.
А тут же рядом находился и Лилин законный супруг, человек острого ума и большой эрудиции, имевший собственные формалистские идеи о звуковых повторах в поэзии, но по существу человек с виду серый и малозаметный и уже обременённый далеко не лестной репутацией. Впрочем, следует указать, что сама его законная супруга подтвердила специализировавшемуся на изучении Маяковского шведскому слависту, с которым во время его пребывания в Москве она незадолго до смерти подружилась, что Брик работал в Чека в качестве юридического эксперта, но якобы только одно время. Конечно, это высокое учреждение в юридических экспертах особенно нуждалось, ведь его сотрудникам было так легко преступить законы. Но, с другой стороны, было ли возможным, работая в нем, сказать — теперь довольно? Впрочем, доходили до меня слухи, в достоверности которых у меня нет оснований сомневаться, что юридический советник принимал участие и в допросах, особенно когда дело касалось лиц, причастных к литературе.
Но в тот вечер он не открывал рта, как-то вымученно улыбался, перешёптывался с Маяковским и норовил показать, что глубоко презирает происходившую вокруг него толчею.
Я с огромным любопытством глазел на эту необычайную тройку, и меня никак не удивило, когда я много позже прочитал признания самой Лили, которая говорила: Брик был моим первым мужем. Обвенчались мы в 1912-м году, а когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг друга, все мы решили не расставаться. Недаром же Маяковский и Осип Брик были близкими друзьями, связанными не только общностью идейных интересов, но и литературной работой, а после Лилиного признания их союз приобретал новое измерение. Разве не было поэтому логично, что, как повествует Лиля, они прожили жизнь и духовно и территориально вместе?.
А ведь это самое территориально вместе было далеко не банальным разрешением проблемы даже на фоне разваливавшегося московского быта 20-х годов, даже при наличии острейшего квартирного кризиса, который, впрочем, едва ли мог затрагивать создавшийся революционный треугольник. Но ни тогда, ни позднее никто и глазом не моргнул: все точно сговорились делать вид, что никакой необычности в этом сожительстве не ощущали и все идёт привычной линией. Это настолько внедрилось в сознание знакомых им людей, что чуть ли не полвека спустя несколько наивный шведский учёный, на которого я уже ссылался, мог писать, что Маяковский и Лиля Брик — одна из замечательнейших пар, известных истории мировой литературы. Что правда, то правда — на поверку выходит, что у Абеляра было некоторое недоразумение с Элоизой, Данте только издали наблюдал за Беатриче, а Петрарка был едва знаком с Лаурой…
Между тем пара Лиля—Маяковский казалась соединённой крепко-накрепко, и действительно, как только Маяковский разлучался с Лилей, он то и дело писал ей слащавые письма или слал телеграммы, в своих обращениях употребляя эпитеты, вроде ослепительный, изумительный, зверски милый, — словом, все те, которые традиционно можно найти в письмах каждого влюблённого, адресованных своей избраннице или, больше того, найти в любом письмовнике. Подписывались эти письма неизменно Щен и к подписи был пририсован довольно ловко сделанный рисуночек с изображением щенка — таково было домашнее прозвище Маяковского.
 Достойна внимания дальнейшая история этих писем, которые тщательно хранились их получательницей, может быть, перевязанные розовой ленточкой, которая, собственно, соответствовала бы их стилю. Впервые опубликовала их сама Лиля, хоть и далеко не полностью, в Литературном наследстве, самом почтенном из советских литературоведческих изданий, в томе, вышедшем под заголовком Новое о Маяковском. Однако, подписав том к выпуску, советские Катоны решили, что их читателю будет зазорно знакомиться с этими письмами и не только не допустили выход обещанного и уже готового второго тома о Маяковском, но изъяли из продажи уже выпущенный первый, который, как говорят, стал на родине некой библиографической редкостью. Да ведь, действительно, можно ли было допустить, чтобы стало известным, что поэт революции, начавший свою революционную деятельность, если верить его автобиографии, чуть ли не в двенадцатилетнем возрасте, был способен на столь плоские и столь трафаретные любовные излияния? Бронзы многопудье, установленное на московской площади, которой присвоено было его имя, никак не гармонировало с письмами, начинавшимися словами милый кашалотик и кончавшимися инфляцией поцелуев, достигающей четырнадцатизначных чисел. Стальная логика марксизма-сталинизма стерпеть такого не могла! А кроме того, в этой пачке писем немалое их число было посвящено денежным вопросам, вернее, Лилиным напоминаниям о высылке денег или, когда Маяковский бывал в Париже сам по себе, просьбам об уплате долгов за туалеты знаменитым модным домам.
Достойна внимания дальнейшая история этих писем, которые тщательно хранились их получательницей, может быть, перевязанные розовой ленточкой, которая, собственно, соответствовала бы их стилю. Впервые опубликовала их сама Лиля, хоть и далеко не полностью, в Литературном наследстве, самом почтенном из советских литературоведческих изданий, в томе, вышедшем под заголовком Новое о Маяковском. Однако, подписав том к выпуску, советские Катоны решили, что их читателю будет зазорно знакомиться с этими письмами и не только не допустили выход обещанного и уже готового второго тома о Маяковском, но изъяли из продажи уже выпущенный первый, который, как говорят, стал на родине некой библиографической редкостью. Да ведь, действительно, можно ли было допустить, чтобы стало известным, что поэт революции, начавший свою революционную деятельность, если верить его автобиографии, чуть ли не в двенадцатилетнем возрасте, был способен на столь плоские и столь трафаретные любовные излияния? Бронзы многопудье, установленное на московской площади, которой присвоено было его имя, никак не гармонировало с письмами, начинавшимися словами милый кашалотик и кончавшимися инфляцией поцелуев, достигающей четырнадцатизначных чисел. Стальная логика марксизма-сталинизма стерпеть такого не могла! А кроме того, в этой пачке писем немалое их число было посвящено денежным вопросам, вернее, Лилиным напоминаниям о высылке денег или, когда Маяковский бывал в Париже сам по себе, просьбам об уплате долгов за туалеты знаменитым модным домам.
Но вот — вскоре после описанной мной вечеринки, под конец которой Маяковский мастерски прочёл свои стихи об Акуловой горе и о посещении его дачи солнцем, мне довелось принять участие в обеде, на котором, кроме поэта, были и Лиля с Эльзой, Шкловский, Пуни, имена остальных сотрапезников выветрились из моей памяти. Без особой на то причины разговор коснулся конструктивизма, усиленно пропагандировавшегося Эренбургом вкупе с художником Лисицким, совместно издававшими недолговечный теоретический журнал Вещь. Маяковский зло нападал на Эренбурга, уверяя, что автор Хулио Хуренито намеренно занят деэстетизацией производственных искусств и за это, на словах в придумывании наказаний Маяковский не стеснялся! А вслед за тем разговор коснулся разросшейся чуть ли не до двух тысяч строк поэмы самого Маяковского Про это. Тема эта была еще свежей и тем более сенсационной, что первый вариант поэмы появился в первом номере журнала Леф, который вышел незадолго до того, вызвав немалую шумиху.
Основная тема поэмы, которая, по признанию автора, — остальные оттёрла и одна безраздельно стала близка, выражалась лапидарными строками:
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя этой теме…!
и в журнальном тексте за этими словами был поставлен ряд точек. Маяковский предлагал прозорливому читателю самому найти финальное слово, рифмующееся со словом лбов!
За обедом в несколько минорном тоне говорилось о том, что поэма, на успех которой Маяковский возлагал большие надежды и которую вполне очевидно он считал большим своим достижением, не пришлась по вкусу московской критике. Напостовцы, тогда еще весьма влиятельные, шипели, провозглашая, что это сорняк, который надо выполоть; более умеренные и, вероятно, более искренние критики ругали Маяковского за предельный индивидуализм, пронизывающий поэму леденящим чувством одиночества, но все же наиболее досадное для Маяковского было то, что один из руководящих сотрудников Лефа и недавний его единомышленник узрел в Про это измену платформе журнала, учуял в ней не выход, а безысходность.
При этом один из присутствующих — не Шкловский ли? — указывал, что обложка отдельного издания поэмы с фотомонтажем Родченко, изображавшим ту, которой поэма была посвящена, была не в меру вызывающей. Ретушированный портрет Лили с деланной театральной улыбкой, с ее преувеличенно-большими глазами, словно наведёнными на читателя и будто способными его загипнотизировать, — все это было чересчур личным, общественно ненужным или даже, может быть, вредным. Близкие к Маяковскому заметно заволновались, стали говорить о тех подвохах, от которых не застрахован ни один советский писатель, об интригах и подножках, подставлять которые были способны люди, еще накануне причислявшиеся к своим.
Сам Маяковский был спокойнее всех. Он тут же напомнил, что под Фермопилами горсточка греков отразила персидские полчища, а когда кто-то стал настаивать на том, что теперь Маяковскому настало время перейти в контратаку и поставить все точки над i, он только кисло улыбнулся и отшутился тем, что это невозможно, поскольку десятеричной 4 больше не существует.
Все же Лиля была прозорливее своего поэта. По целому ряду ее замечаний можно было почувствовать, что она лучше него отдаёт себе отчёт в том, что центр тяжести отнюдь не в колючих высказываниях критики, а в том, что эти критические замечания осмелились быть колючими, потому что звезда Маяковского начинает закатываться и эпоха обязательных панегириков миновала. Впрочем, может быть, он и сам это сознавал и его бравурность была в какой-то мере показной. Говорится же, что чужая душа — потёмки.
Прошло несколько лет. Маяковский разъезжал по советской провинции с докладами, диспутами, чтением стихов, а кроме того почти ежегодно ездил за границу. Он посетил Мексику, был в Нью-Йорке у старого друга Бурлюка, не раз наезжал в Париж, иногда вместе с Лилей, иногда сам по себе. Для Лили в Париже было много приманок, не входивших в программу каждого туриста — во-первых, у неё была там сестра, во- вторых, покупки. Зато, когда Маяковский появлялся в Париже в одиночестве, его тогда можно было часто встретить за игрой на бильярде — он, кстати сказать, был чрезвычайно азартен и играл только на деньги — в той Клозери де Лила, которую прославил Верлен, регулярно приходивший туда выпить положенный ему абсент. Но вот в один из самостоятельных приездов Маяковского в Париж произошло нечто, никакой программой не предвиденное и от чего Щена не только не сумела оградить как бы служившая ему гидом Эльза, но, на своё горе, она была косвенно виновна в произошедшем. Нежданно-негаданно Маяковский по уши влюбился, притом —даже жутко подумать — в одну милую и очень эффектную молодую русскую эмигрантку, с которой познакомила его не чуявшая последствий, без вины виноватая Эльза. Парижский роман Маяковского с Т. А. Яковлевой не мог не быть воспринят на Лубянке как угроза его невозвращения.
Удивительно ли, что, когда об этом стало известно, да он своего увлечения ни от кого и не скрывал, и ему на следующий год вновь захотелось посетить Париж, для него по- новому привлекательный, в разрешении на выезд из Советского Союза ему впервые было без объяснения причин отказано и всякие его хлопоты оказались тщетными. Стоустая молва тогда упорно говорила, что именно Лиля со своим бывшим мужем (а необходимые для такого шага связи у них, как мы видели, несомненно были, что подтверждают частые визиты в их общую квартиру известного чекиста Я. С. Агранова) в значительной степени содействовали тому, что певца революции больше за границу не выпускали.
Возможно, что этот запрет на выезд, как и совпавшее с ним охлаждение отношений с Лилей (нетрудно догадаться, что Маяковский был хорошо осведомлён о всей подноготной этого запрета — услужливые люди повсюду найдутся) сыграли немаловажную роль в его трагическом решении, и хотя в предсмертном письме он не без аффектации взывал к Лиле: Лиля — люби меня, строчкой ниже, обращаясь к правительству, уточнял: Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры (встреч с которыми он всячески избегал) и Вероника Полонская. Подобное соседство имён в письме-завещании едва ли могло быть Лиле по душе и оттого роль актрисы Полонской в жизни Маяковского была не в меру затушёвана. В комментариях к собраниям сочинений Маяковского, в которых Лиля, естественно, принимала непосредственное участие, имя Полонской едва проскальзывает, и, как следует из воспоминания самой Полонской советское правительство так и не выполнило последнюю волю своего поэта.
Так и получилось — ив этом, конечно, непомерно большая доля ответственности лежит именно на Лиле, — что тот, кому мерещилось триумфальное шествие по жизни, оказался побеждённым самой тривиальной, самой „мещанской из всех возможных жизненных ситуаций. Если прибегнуть к его собственной терминологии, можно заключить, что обыденщина вторглась в щели быта, а она… его Эгерия, его псевдовечная любовь — взяла, / отобрала сердце / и просто / пошла играть — / как девочка мячиком. Более точного образа и не придумать.
Впрочем, много-много лет спустя, многое и многих пережив, Лиля и сама ускорила свой конец. Поскользнувшись, она сломала бедро, не выдержала физических мучений и в очень почтенном возрасте прибегла к помощи быстродействующего яда. В этом отчаянном поступке сказывается характер той, которая претендовала быть музой Маяковского.
Александр Васильевич Бахрах родился в Киеве в 1902 году, но вскоре его семья переселилась в Петербург. С 1913 по 1917г.г., с третьего по шестой класс Александр учился в частной гимназии К. Мая. Однако уже осенью 1918 года семейство будущего литературного летописца перебралось обратно в Киев, а затем, в мае 1920 года, навсегда покинуло Россию.
После непродолжительного пребывания в Варшаве курс был взят на Париж, где уже поджидал обосновавшийся здесь ранее дед Александра. Два года юноша исправно посещал занятия на юридическом факультете Сорбонны. Париж стал более чем на полвека, постоянным домом Александра Васильевича. Правда, в 1922 году юноша отправился в Берлин, в ту пору литературную столицу русской эмиграции. Здесь Бахрах познакомился не только с виднейшими литераторами, которые были вынуждены покинуть Россию или были изгнаны из нее, но и с гостями из Советского Союза, – Борисом Пастернаком, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным, Андреем Белым, Алексеем Толстым…
Совсем юный литератор – в берлинской газете «Дни» была опубликована его первая рецензия на книгу А.М. Ремизова «Ахру» – стал секретарем «Клуба писателей». Это позволило ему стать своим в литературном мире Берлина. «Благожелательный Бахрах» назвал свою статью о нем поэт и критик Юрий Иваск. Очевидно, эту благожелательность чувствовали все, кто с ним общался. Марина Цветаева посвятила ему несколько стихотворений в цикле «Час души». В одном из них есть такие строчки:
В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах –
Ничьих еще…
Уехав в Прагу, Марина Цветаева переписывалась с Бахрахом. Впоследствии значительную часть этой переписки Александр Васильевич опубликовал.
Спустя полвека на протяжении нескольких лет Бахрах переписывался с Георгием Адамовичем, и эта переписка представляет столь же значительный и исторический, и литературный интерес…
С конца 1923 года Бахрах снова в Париже. Пишет рецензии, репортажи, участвует в литературных вечерах и встречах. Война изменила привычную жизнь. Он был призван в армию, но «странная война» быстро окончилась, и Бахрах оказался на юге. Бунин, по сути дела, спас его. После войны Бахрах два десятилетия работал на радио «Свобода», возглавлял русский литературный отдел. Именно он рекомендовал для работы на радио Гайто Газданова и других писателей и критиков, которых хорошо знал по Парижу. Эта работа позволила им просто-напросто выжить в трудные послевоенные годы, когда интерес к русской литературе за рубежом постепенно стал иссякать, поскольку читателей становилось все меньше и меньше: кто-то вернулся на родину, кто-то двинулся дальше за океан, а кто-то ушел в мир иной…
Свои многолетние записи о встречах с разными людьми и впечатлениях Александр Васильевич стал постепенно публиковать в газетах и журналах. Эти заметки печатались под общим заглавием: «По памяти, по записям», а в одном из журналов – «По памяти, по запискам». В 1980 году некоторые из воспоминаний ему удалось выпустить в Париже в виде отдельной книжки. Туда вошла, конечно же, лишь незначительная часть литературной мозаики автора. Остальная, более обширная, продолжала появляться в периодике даже спустя несколько лет после кончины автора в 1985 году.
При разработке этой страницы была использована статья Ст. Никоненко на сайте http://www.belousenko.com/wr_Bacherac.htm