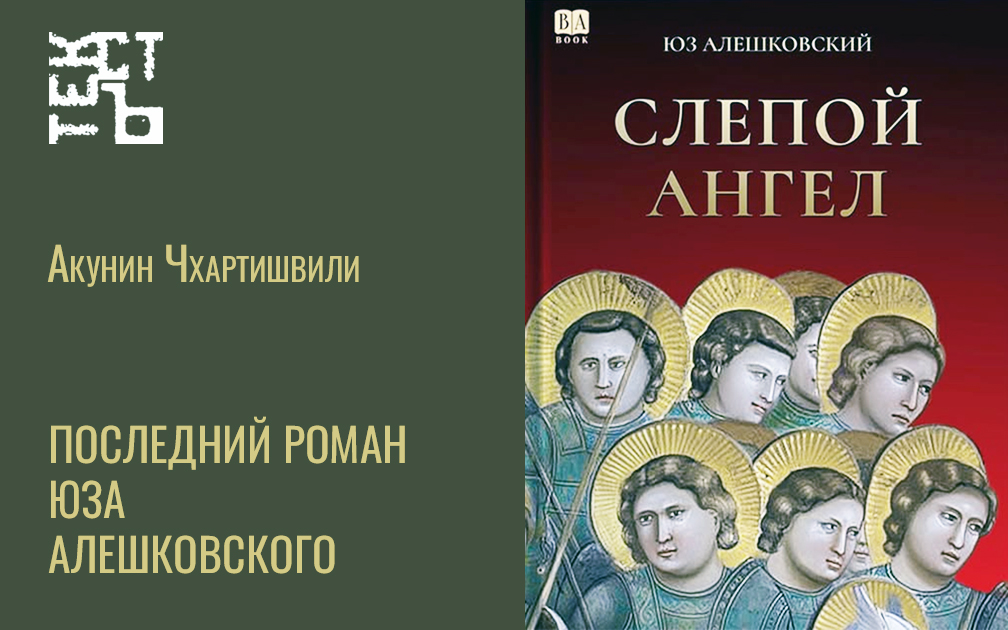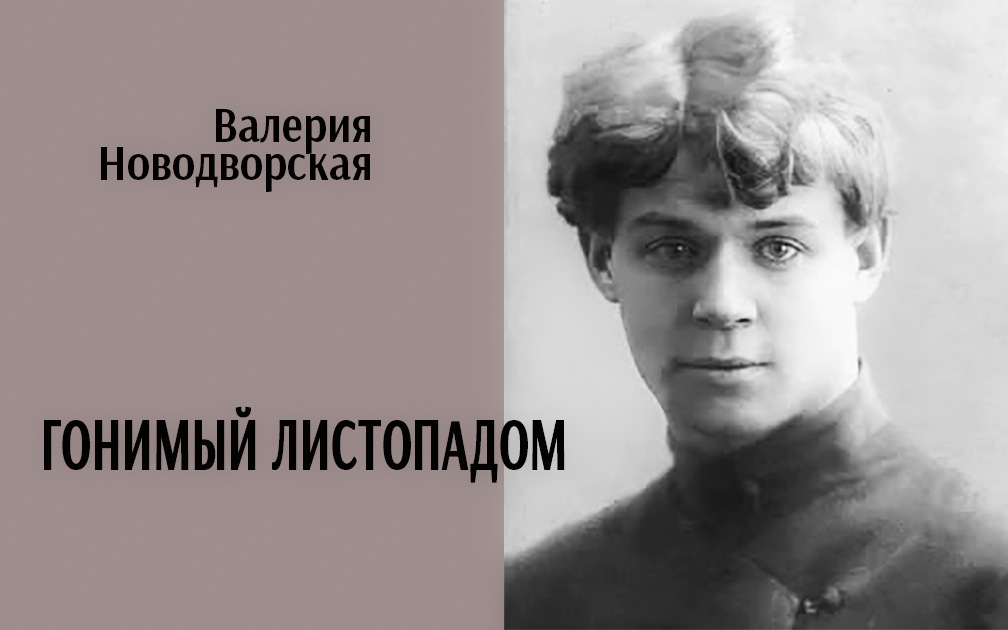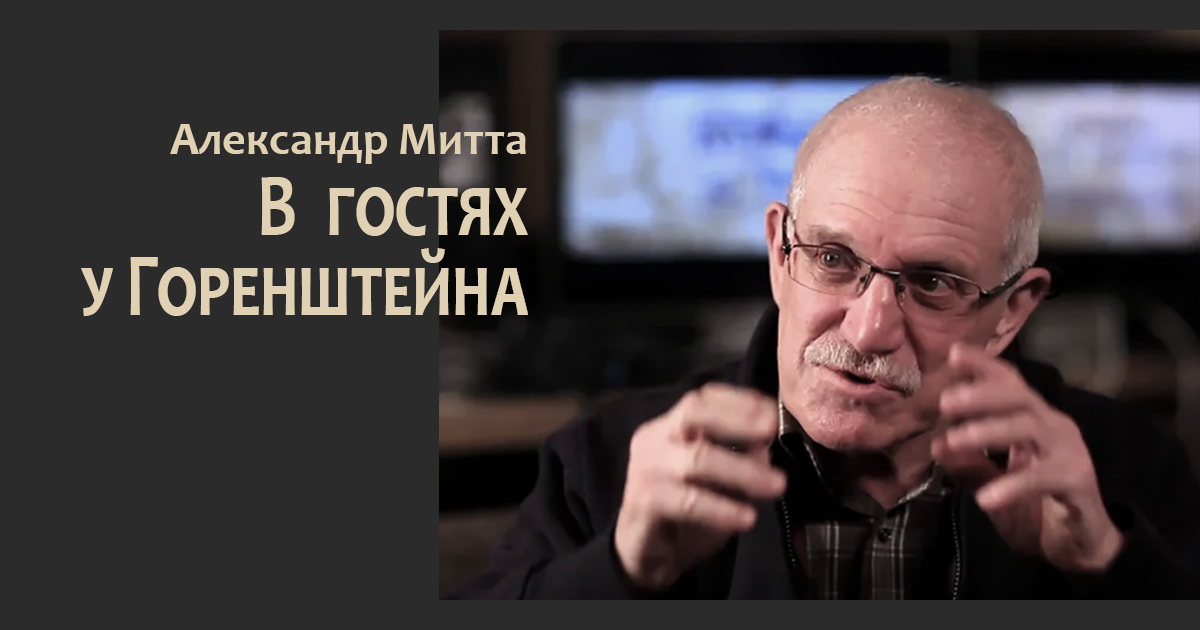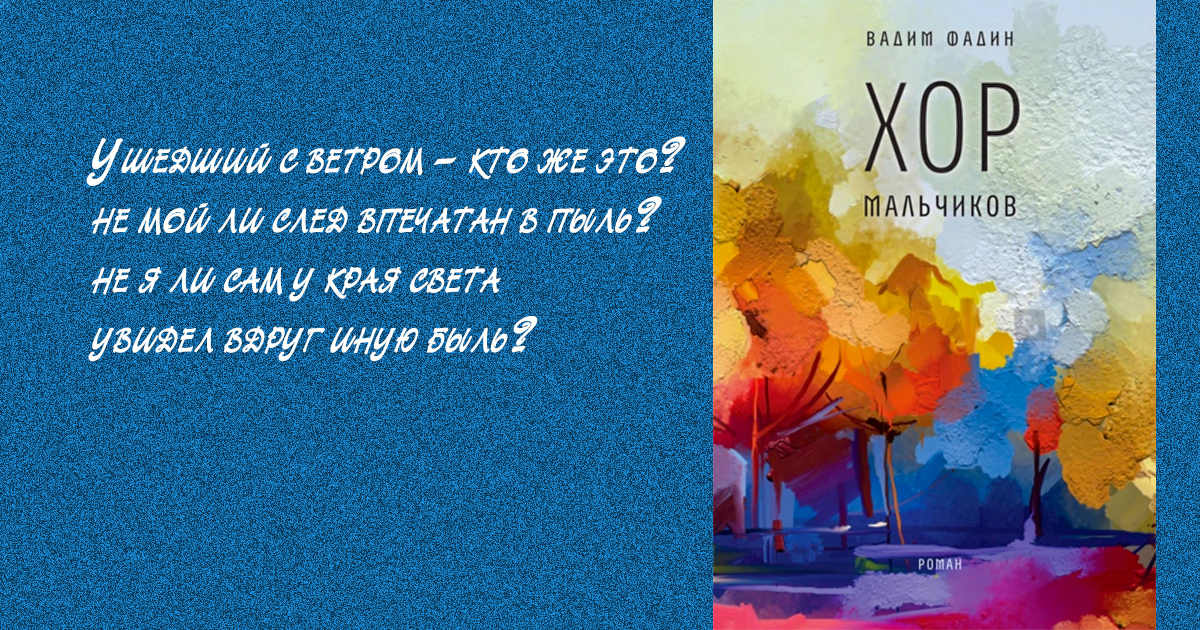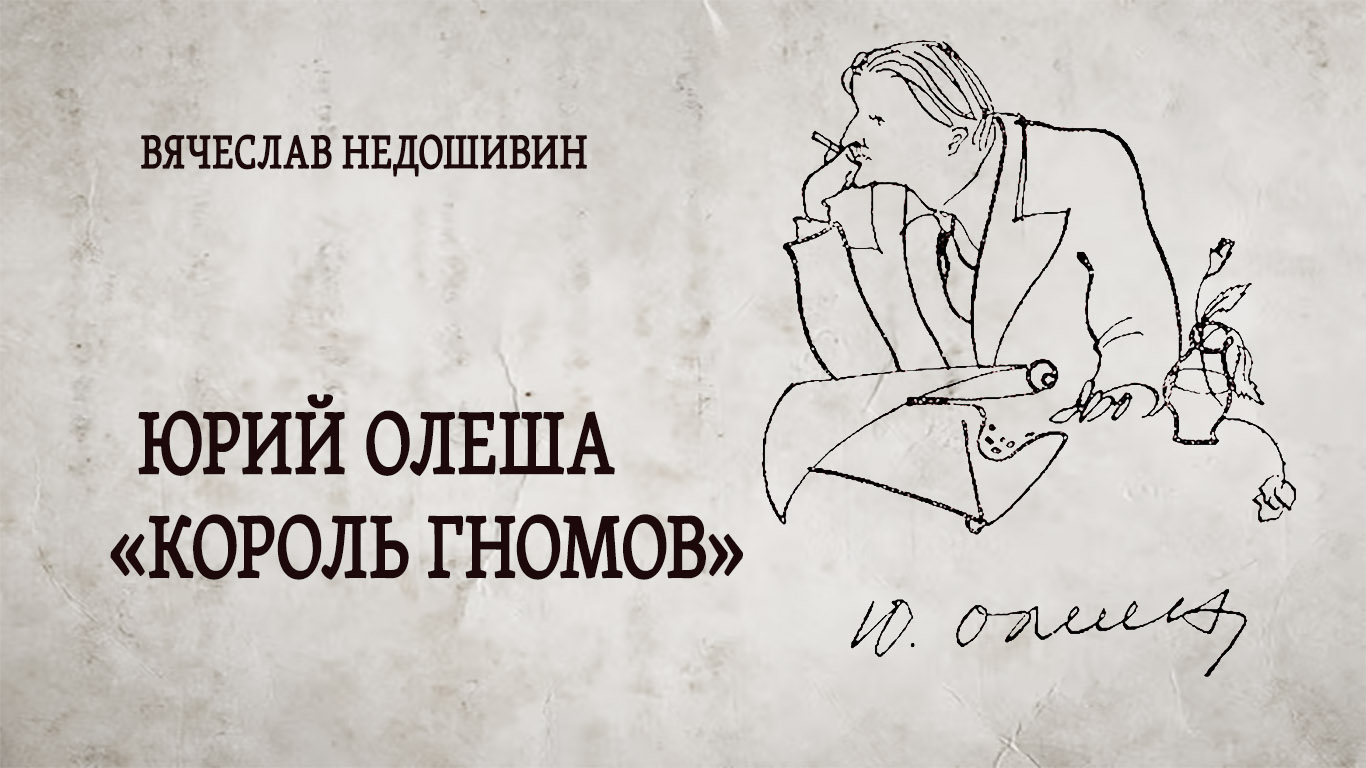20 июля 1897 года родился Михаил Слонимский
В книге «Факультет чудаков» (СПб, 2004), представляющей трех авторов — Геннадия Гора, Леонида Рахманова и Михаила Слонимского, Андрей Битов вспоминает, как пригласившего его в свое литобъединение при Совписе «серапионова брата» Слонимского он принял за известного букиниста. Принять известного писателя за известного букиниста, мне казалось, было бы возможно только сегодня, если бы профессия букиниста не сделалась еще менее популярной, чем профессия писателя. Однако ошибка Битова даже в то литературоцентрическое время стала возможной из-за того, что, как пишет в послесловии Игорь Сухих, «лучшее, что они написали, осталось все-таки в тех далеких двадцатых годах». И это, к несчастью, справедливо.
Но почему же, с полным основанием отдав столько печатной площади и внимания тем писателям, которых советская власть в бесконечной своей тупости душила шумно и показательно, мы совсем забыли о тех, кого она душила буднично и не слишком громко, позволяя выживать и печататься, пряча самое оригинальное в себе, притворяясь гораздо более ординарными, чем они были на самом деле? Советская литература, даже «официальная», то есть со скрипом, но дозволенная, все равно напоминает парад ветеранов войны, прячущих под мундирами и орденами тяжелые увечья. Так почему бы нам не заглянуть в те двадцатые годы, когда у победившей черни еще не дошли руки до окончательного превращения литературы в «часть общепролетарского дела», то есть в подсобный цех диктатуры вождей, стремившихся, в соответствии с завещанием Ленина, превратить всю страну в единую фабрику. Почему мы считаем себя настолько богатыми, что ленимся заглянуть в этот забытый Клондайк? Почему не боремся за государственную программу собирания лучшего из полузабытого? Не одни же только разрушенные храмы нужно восстанавливать! Литература в конце концов тоже храм, а не мастерская.
Впрочем, как учил Конфуций, лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту. Заглянем для начала в сборник «Западники», составивший второй том собрания сочинений Слонимского (М. — Л., 1929). Первая повесть «Западники» начинается с того, как французский интеллектуал приезжает в Ленинград, увлеченный революционной экзотикой. Архитектура восхитила его, но после сияния, движения и грохота европейских центров ленинградские улицы показались ему тихими, сумрачными и неподвижными, лишенными обычного для европейских вечеров веселья, а прохожие казались ему все на одно лицо и притом в одинаковой нищенской одежде. Русские, которых он встречал в Париже, по культуре были европейцами, а здесь явно остались низы, чуждые и враждебные Европе, которым еще предстоял пройденный ею путь.
Заблудившись, он спросил дорогу у молодого человека по имени Андрей, который, хотя и плохо, говорил по-французски и упросил иностранца зайти в «Бар» (так! — А.М.) «Там, попивая пиво, француз заговорил о России с таким авторитетом, словно он не один день, а много лет изучал эту страну. Он был вполне вежлив и осторожен и прежде всего предупредил, что целиком приветствует революцию и видит теперь собственными глазами огромные достижения этой отсталой страны, но все же не может не отметить множества недостатков». И далее перечисляет все убожества, которые видел собственными глазами, тогда как об огромных достижениях он считает своим долгом говорить с чужих слов.
Зато, уже выехав за границу, он делится с соседом по купе — английским коммерсантом прежде всего личными впечатлениями.
— Очень отсталая страна. И люди совсем не смеются.
— Нищие, — кратко объяснил англичанин.
Зато третий пассажир, тоже француз, заявил, что при всей своей экономической и культурной отсталости Россия является передовой страной в идейном смысле и то, что совершается в России, грандиозно и величественно.
Первый француз «терпел восторги собеседника только для того, чтобы высказать свои мысли о России», а именно: Россия — варварская страна, отставшая от Европы на несколько столетий; Россия не доросла до истинного демократизма, и свобода в ее руках неизбежно превращается в деспотизм; Ленин и прочие реформаторы пытались поднять Россию до культурного уровня западно-европейских стран, но дикость русского народа продиктовала соответствующую дикость политического режима; говорить же, что Россия идейно выше Франции, это чепуха, Франция по-настоящему свободная высококультурная страна, передовая страна Европы!
Андрей же через некоторое время сам едет в Париж повидаться с отцом — дипломатическим работником и западником еще дореволюционного замеса, и европейские впечатления Андрея, его мысли и разговоры изображены так точно и остроумно, что требуют полного прочтения. Но если в двух словах, то, пребывая в России и даже за границей, Андрей усматривает в западниках лакейское подобострастие, однако, возвращаясь домой, все-таки хочет видеть в России благоустроенную Европу. Сборник отличается удивительной интеллектуальной насыщенностью в традиции Достоевского или, скорее, Леонида Андреева: герои постоянно совершают решительные поступки под влиянием чисто идейных мотивов, — я и не представлял, что такое было возможно в советской литературе, которую пришедшая к власти серость стремилась безжалостно низвести до собственного уровня. Я не думаю даже, что власть серости есть целиком порождение социализма или действительно агрессивной и примитивной классовой теории, — любые войны и революции приводят наверх людей, обладающих тем, что по-русски именуется нахрапом, а по-философски волей к власти. Нахрап же очень редко сочетается с духовной утонченностью: нахрап требует подминать, а понимание чего бы то ни было — уступать.
В «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1971) статья о Слонимском завершается таким пассажем: «Отдав дань в ранних произв. эффектному, метафоричному стилю, С. позднее пришел к стилю лаконичному, строго реалистическому». Обратим внимание на проговорку: метафоричность якобы противоречит реалистичности, и задумаемся, почему литературные надзиратели преследовали не только метафоричность, но и интеллектуализм. Мой ответ — причиной не столько идейный догматизм (он присущ более всего самим интеллектуалам), сколько ненависть нахрапистой серости ко всему, что превосходит ее понимание.
Кстати сказать, метафористика Слонимского не такая уж роскошная, Слонимский не Олеша. Его первая, сплошь яркая и по-умному остросюжетная книжка «Шестой стрелковый» (Пг., 1922) больше сверкает точной, а потому недоброй психологической проницательностью, невозможной без остроты ума. Склонного у Слонимского постоянно подчеркивать абсурдизм, или, проще, идиотизм деревенской, городской, военной и мирной жизни.
«Страх не находил места в его узком черепе, заполненном бессмысленной радостью».
«Честь имею доложить: рота моя выбита неприятелем до одного. Оставшиеся сдались». — «Благодарю вас. Значит, все обстоит благополучно?» — «Так точно, господин капитан».
«Успокойся, сейчас все пройдет. Помрешь — Георгия дадим в приказе, и больше ничего. Поручения есть?».
Поэтому интереснее проследить, как Слонимский избавлялся не от метафоричного стиля (это легко), а от интеллектуализма, который вообще-то склонен с годами только нарастать.
Его роман «Лавровы» (избранное в 2-х томах, т.2; Л., 1980), написанный в 1926-м, переработанный в 1948-м году и переизданный около двадцати раз, начинается эпически: «Борис Лавров, сын инженера, ученик восьмого класса Четвертой классической гимназии, летом 1914 года жил с родителями и братом на даче в Разливе и, как всегда, давал уроки. Он обучал кадетика в генеральской семье». Рассказ «Генерал» 1922 года начинается в совершенно другом тоне: «С марта не с кем разговаривать генералу Чечугину. Никто не поймет. Поймут генерала только те, что в марте кинуты стрелками в колодец за деревней Емелистье». Это тоже, так сказать, эпический слог, но эпичность «Генерала» обеспечена масштабностью событий и характеров, а в «Лавровых» индивидуальными характерами обладают исключительно неприятные персонажи — истеричка мамаша, безвольный простак папаша, а те, в ком заключаются пресловутые «ростки нового», — мальчик из хорошей семьи Борис, через окопы Германской отыскивающий путь к большевикам, и сами большевики не обладают ни одной из тех снижающих черт, с которыми приходится бороться даже самым хорошим людям. Что и делает их хорошими — и живыми. Революционеры же не знают ни зависти, ни страха, ни тщеславия, ни сомнений — избирательная проницательность автора тщательно их обходит. Да они к тому же частенько изъясняются лозунгами («за нас правда, рабочая правда, народная правда»), а одна капля агитпропа способна убить целую лошадь художественности. От этого и слог романа из эпического очень быстро становится просто монотонным, перечислительным.
А что еще хуже — лозунгами иногда изъясняется и сам автор: «В кандалах и арестантских халатах пошли на каторгу подлинные патриоты». «Наступили первые дни великого Семнадцатого года».
Любопытно, правда, что иностранный агитпроп выглядит вполне живым: когда в смешанной компании русский либерал заявляет, что не будет петь «Боже, царя храни», присутствующий при этом англичанин, писатель и военный корреспондент, встает и «хриплым, нестерпимым голосом» исполняет английский гимн. Ему веришь, потому что он глуп и противен: «Высокий, прямой, с неподвижным, не меняющим выражения лицом, он пел громко и фальшиво, словно желая своим пением заставить всех уважать английского короля». Революционеры же сплошное благородство: «Каждое его слово было полно гнева, но в то же время она слышала в его голосе неожиданную доброту». И главный герой подводит итог романа такими словами: «Какое это счастье — менять жизнь к лучшему и самому становиться лучше вместе с ней».
Освободив положительных героев от человеческих слабостей, автор освободил их и от жизни. А заодно и от мышления, ибо невозможно мыслить, не зная сомнений. В принципе можно было бы не знающему сомнений герою дать сильного оппонента, но это означало бы предоставить трибуну врагу.
Можно было бы, правда, после этого подавить врага если не интеллектуально, то морально, сделав его трусом, эгоцентриком, как это проделал Фадеев с Мечиком, но, во-первых, в сороковые вполне могли пришить и сочувствие к вражеским идеям за один лишь их пересказ, а во-вторых…
В своих «Литературных заметках», написанных через много лет после смерти Сталина («Завтра»; Л., 1987), когда уже никто за язык не тянул, Слонимский осуждает свою лучшую книгу «Шестой стрелковый» за то, что бросил в ней все художественные ресурсы на наиболее выразительное изображение гибели старой армии, но не показал при этом пресловутых ростков нового: «вот это, мол, гибнет, а это побеждает, рождается вновь», — эти ростки нового и заглушили все живое в его романе. Силу же «Шестого стрелкового» составило именно не пытающееся себя корректировать эмоциональное потрясение: «Мотив гибели превратился в мотив всеобщей гибели и вел к изображению сумбура, доходящего до фантастики, к некоторой алогичности в действиях персонажей».
В тех же «Литературных заметках» Слонимский признается и в более убийственной — самоубийственной — вещи: «В социализме, в коммунизме — единственное спасение людей от всех несчастий и от возможности озверения. …Выше Ленина не знаю никого в истории». Так что погубил писателя не столько страх, сколько вера, — ведь ленинизм был несомненно светской религией. А вера в совершенство какого бы то ни было социального устройства, неустранимо трагического по своей природе, для искусства разрушительнее террора. Террор рождает внутреннее несогласие с реальностью, а вера подчиняет ей человека полностью. Искусство же есть сопротивление реальности во имя какого-то идеала, лежащего вне реальности. Но если идеал отождествляется с реальной властью, художнику конец. Даже ум его сольется с агитпропом.
В 1950 году в разгар кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом Слонимский закончил роман «Инженеры» (избранное в 2-х томах, т.2) — развернутую историю о том, как в годы перед революцией иностранные предприниматели присвоили изобретение русского инженера, да еще и с помощью его же приятеля-адвоката чуть не упекли его в тюрьму, когда он попытался ерепениться: «Иностранные промышленники, коммерсанты, ремесленники глубоко внедрились в город. Нигде в России преклонение перед всем заграничным не выражалось так явственно и так активно, как в Санкт-Петербурге»; «Слово «заграница» импонировало и горничной из «хорошего дома», и университетскому приват-доценту. Для них само собой разумелось, что все заграничное неизмеримо лучше, чем отечественное»; «Казенные заказы давались иностранным фирмам, пошлины благоприятствовали иностранцам. Вся эта громада власти и денег давила русскую столицу и всю Россию».
Этим иностранным игом возмущается профессор Кондаков: «Сейчас труднейшее время, варяги прут на Русь не с оружием, а с деньгой, а царь с министром у них в холуях. Но я вам скажу: Россия не колония, нет! Никогда народ не позволит…»
Попутно по-инженерски достается и модным философским течениям — «петербургским Гартманам, Шопенгауэрам и прочим»: «Их бы всех, наших доморощенных Ницше, сверхчувственных подлецов, облить керосином да сжечь, чтобы не заражали воздух!». Но это к слову, главная тема — борьба с глобализацией, выражаясь современным языком. И тема далеко не надуманная: доминирование сильнейших всегда вызывает протест проигрывающих. Однако для защиты национальной науки, национальной промышленности единственным средством снова объявляется революция. Почему, ведь сильнейшие все равно останутся сильнейшими (революционная разруха лишь увеличит разрыв), а потому в их руках по-прежнему останутся все орудия — угроза, подкуп и соблазн, только еще и возникнет опасность перехода экономического противостояния в военное, а хрен милитаризации ничуть не слаще редьки компрадорства.
Вопрос слишком серьезный, чтобы его здесь обсуждать, ясно лишь, что такие символы веры, как революция и социализм автоматически проблемы не решают. И умный культурный писатель бы вполне мог это понять, если бы не подавлял свой интеллект религией, в преданности которой он продолжал клясться, когда этого уже вполне можно было избежать.
В статье «Михаил Зощенко» (тот же т.2) Слонимский пишет, что поколение, к которому принадлежал и Зощенко, и он сам, на Западе было названо «потерянным поколением». Но «у нас в России революция спасла это поколение от судьбы наших сверстников, героев Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и других западных писателей».
Как мы теперь видим, поколение Слонимского оказалось куда более потерянным для литературы. И теперь наша задача собрать и сохранить в их творчестве все, что революции все-таки не удалось подавить и уничтожить.