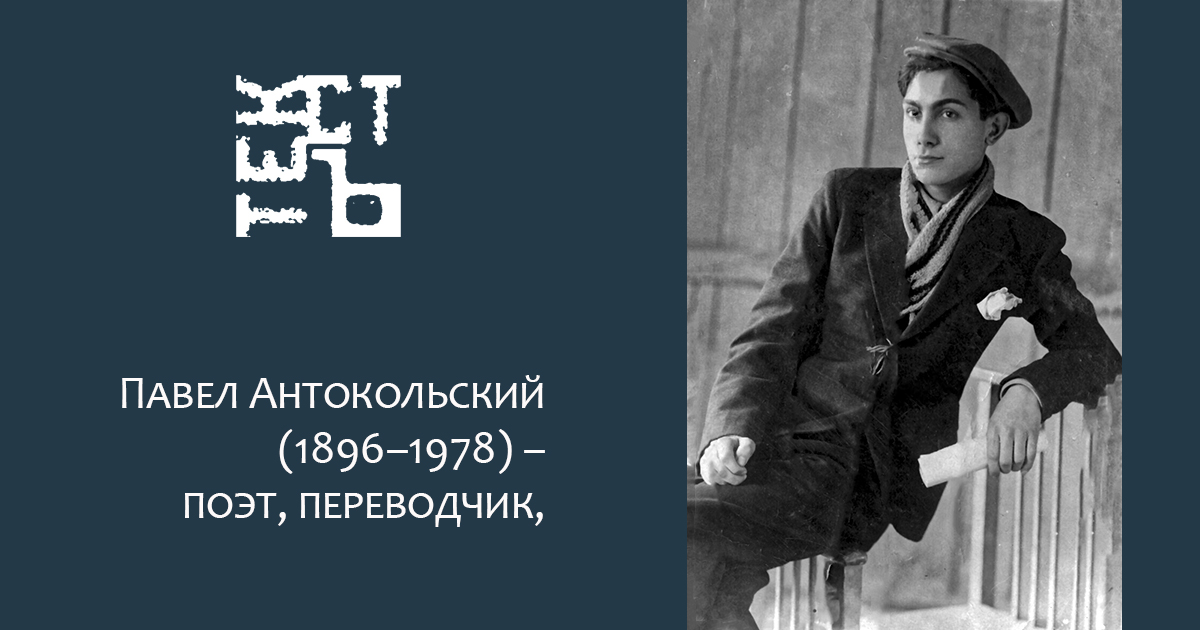Стихи Бориса Херсонского, одного из лучших современных русскоязычных поэтов. Критик Ирина Роднянская писала о творчестве Херсонского:
Итак, вот поэзия «разлома», «экзистенциального кризиса», когда «притяжение прошлого огромно», а «будущее находится в абсолютном тумане» (все здесь закавыченное — из интервью). Для меня особенно важно, что поэзия эта — плод верующего сознания, открытого для неверия. Мне кажется, что творчество религиозных смыслов в художественном пространстве более всего возможно сейчас именно на этом болезненном пути.
Вера на скорбной душе запеклась лихорадкой.
Отпадет — и розовый рубчик заметен едва.
Избави Бог! — не рубчик, глубокий шрам останется, особенно при уме и таланте. Но нам-то вместе с поэтом ходить по этим кругам исторического ада и душевного чистилища, находя выход, теряя его и снова находя, — большая удача и подмога.
* * *
Когда тирана давят петлёй с огромным узлом,
а семейство глядит на экран и думает «Поделом!»,
коленками на табурет, склонившись над круглым столом,
мальчик рисует что-то, поглядывая на экран,
на котором через секунду повиснет в петле тиран.
Но этого не покажут, а так, словами расскажут.
если мальчик станет тираном, его тоже строго накажут.
А люди будут плясать и прыгать на площадях,
радоваться тому, что их тоже не пощадят,
потому что и жертву, и палача переживет
ликующая толпа, окружающая эшафот.
Ребенок ведет черту, склоняясь над круглым столом,
старательно, словно границу между добром и злом.
Тиран стоит на экране в петле с огромным узлом.
* * *
брак царя был свободен от секса: супруг уважал супругу.
они гуляли вместе, не прикасаясь друг к другу.
то по дворцовым залам, то по дворцовому парку.
она выводила левретку, а он − овчарку.
они оставались чисты, как жители сельской читальни.
во всём дворце не нашлось ни кровати, ни спальни,
не было ни сортира, ни, тем паче − алькова.
он был не слишком умён, она − совсем бестолкова.
Бог давал им деток задаром, без зачатья и родов.
их семьёю была семья различных народов.
южные были смуглы, а северные бледнолицы.
и это всё, что известно о жизни царя и царицы.
* * *
В шахте стоит баллистическая ракета,
она скучает – давно не видела света,
не летела над океаном в ожиданье конца,
а ведь просто – кнопку нажмёшь, и вырвется на свободу
в массы нести святую тяжёлую воду
во имя святой Варвары и всевидящего Отца.
Она стоит по струнке во мраке и в отупенье,
она терпелива но не безгранично терпенье,
ей тревожно, её изнутри пробирает дрожь.
Человечек в сером костюме, при галстуке сером
не может похвастать ни силою, ни размером,
но на всякий случай лучше его не тревожь.
Они с ракетой родня двоюродная но всё же,
во сне он кладёт ракету на брачное ложе,
инцест, конечно, но сладок запретный плод.
Вождь и военная техника венчаны вне закона,
велико притяжение взрывоопасного лона,
интимная красная кнопка, милый секретный код.
* * *
Видится сеятель, широким жестом зерно
бросающий в землю, распаханную сохой.
Борода и поддевка как полагается, но
пшеничка с гнильцой, земля оказалась сухой.
Холмы заросли кустарником, вызверившееся село
давно уже пригород, где заводская труба
единственная вертикаль, а дома повело,
и слабые ножки не прыгнут выше узкого лба.
Еще бывают столбы и гудящие провода
на фарфоровых рюмках, перевернутых, потому
столбы и не пьют, идешь, не зная куда,
приносишь не знаю что, не нужное никому.
Пословицы начинаются с если бы да кабы,
романы, к примеру, с «Федор молча сидел в углу,
не глядя на Варю», и звук предвечной трубы
подымает солдат из гроба и уводит во мглу.
* * *
Видно слишком спокойно мы жили в последние годы.
Годы плыли вдоль жизни, как белые пароходы,
именно «паро», не «тепло», не «атомо», ибо пар
хотя и горяч, но лёгок и безопасен,
хороши матросы, и офицер прекрасен −
в белой форме, с бородкой, подтянут и сухопар.
Вниз по течению времени − загребают колёса,
ударяет колокол, труба, что твоя папироса,
которую курит двигатель паровой,
открыта палуба, и стоят под навесом
нарядные мысли и вдаль глядят с интересом,
все мысли − прямые и ни одной кривой.
Знаю − я не пишу стихи, а рисую картинки,
не говорю, а повторяю быстро и без запинки
то, что выучил прежде на молочный зубок,
который выпал, а выросший постоянный
мучил болью и был удалён, окаянный,
и за окном царил нерушимый совок.
Видно слишком спокойно мы жили и не тужили,
соседки-портнихи мамам нарядные платья шили,
солнце всходило по расписанию календаря,
времена сменяли друг друга, как стражи у мавзолея,
и люди росли не шалея и не болея,
в долг не давая и лишнего не беря.
Я не пишу стихи, но картинки мои красивы,
как базарные, яркие детские примитивы,
полный альбом и пятёрка в каждом углу.
И где то спокойствие, где та яркая ясность,
где белый нарядный пар и его безопасность,
где мысли привыкшие к спокойствию и теплу?
* * *
Вода возвращается вверх по руслу к истокам.
Вслед за ней с пением рыбы идут на хвостах по сухому дну,
раки высвистывают: Боже, не будь жестоким!
Иван говорит: налей-ка еще одну.
И ему наливают в мутный стакан граненый,
на газетке селедочку режут и репчатый лук,
вольному воля, сидит в раю за столом спасенный,
ни смерти ему второй, ни вечных мук.
Только струганный стол, да газетка позапрошлого века,
расчлененная рыбка, да лука лиловые кольца, да
деревянный костыль – в прошлой жизни он был калека,
инвалид войны, ветеран труда,
кто-то там еще, но всего не упомнишь, а список
прикноплен к обоям под бумажной иконкой в углу.
На блюдечке у самовара – горстка тягучих ирисок.
Вот и внук покойный явился и садится к столу.
* * *
Волокут Перуна, ох, волокут, слышен рокот вод.
Перуна бросают в Днипро головой вперед.
Он плывёт, что твоё бревно, обратив к облакам
плоский раскосый лик, вызолоченный ус.
Он и есть бревно, но сумел сохранить народ,
который пришлые греки прибрали к рукам.
По головам греков, аки посуху, грядет Иисус.
Огромный крест стоит на зеленом холме.
Перун плывет, и вот что у него на уме,
вот что у него на деревянном уме:
Крест тоже дерево. Два бревна.
Дивиться нечему. Эта страна
привыкла кланяться дереву, камню. Грома раскат
людей повергает в дрожь.
Ложь у них нарасхват.
Любую правду перетолкуют в ложь.
Я был елдак, торчащий из выпуклости земной.
Смотри, Преемник, что стало со мной.
Я хранил народ и Ты сохранишь народ.
Но настанет и Твой черед,
настанет и Твой черед.
Перун плывет, и толпы неверных чад
глядят с холмов, и кричат, кричат,
галдят с холмов и кричат: «Давай,
выплывай, Боже, давай, выплывай!»
Запрокинув лик к темнеющим, закипающим небесам,
Перун выплывает, Днипро течет по златым усам,
гремит на порогах, охватывает острова,
по которым волнами ходит высокая, высохшая трава.
* * *
Время зимних праздников смешивает года
детства, юности, старости, не понимаешь когда
что случилось, путаешь имена, пословицы, города,
сворачиваешь за угол, смотришь под ноги, вдруг
найдешь свое счастье, тот же замкнутый круг,
повторенье пройденного, жизнь отбилась от рук.
Шары-зеркалки, на нитке – орехи в фольге.
Шоколад «Аленка», монетка, запеченная в пироге,
фантазия Гете, гвоздь в твоем сапоге.
Наткрекер-щелкунчик, Мэсайя-Мессия, хор
«Аллилуйя!», волосы, расчесанные на пробор,
белый воротничок, попытка, провал, повтор.
Так бугорок на диске отбрасывает назад
звукосниматель, опять прогулка, промерзший сад,
бронзовый лев, колонны, осыпавшийся фасад.
Из рупора песни, слышанные столько раз,
на балконе – хлам, выставленный напоказ,
на небе сплошная облачность застит Всевидящий Глаз.
Небо имеет глаза, стены – уши, хорошо, что они
слепнут и глохнут в эти зимние дни,
делай что хочешь, кому ты нужен, рискни.
* * *
всё что приходит в голову и вытекает наружу
пусть исчезает я тишину не нарушу
мозговая кора черепная коробка
широка дорога к погибели а к спасению узкая тропка
да и по той идёт-бредёт одинокий калека
спрашивает у ангелов где поблизости есть аптека
там старый еврей аптекарь торгует ядом
и ангелы отвечают не бойся аптека рядом
аптека рядом скажи откуда ты родом
кем работал отец как мать относилась к родам
с каким счётом рождённый победил эмбрионов
чем стоны боли разнятся от оргазмических стонов
отвечает калека знал но забыл не судите строго
рай за оградой он что-то вроде острога
зек сидит за оградой а шёл сюда за наградой
и совесть висит как икона над потухшей лампадой
над потухшей лампадой а как горела коптила
герои фронта не любили героев тыла
герои тыла избегали военкоматов
им нравился тёплый ветер и красота закатов
поверхность моря где одинокий парус
ничего не ищет белеет себе ни о чём не парясь
а в уличном гаме нет места мажорной гамме
и в каждом храме учат согласно школьной программе
* * *
Где мозг без извилин – язык без костей.
Где идол всесилен – солдат без вестей.
Торчат обелиски, как иглы ежей.
Бессмысленны иски – хоть дела не шей.
Протесты нелепы – согнут, как всегда.
Дома, словно склепы, мертвы города.
Знобит человечка, хоть осень тепла.
Зловонная речка вдоль жизни текла.
Текла, пересохла, как будто мотор
заглох, впрочем, сопла чадят до сих пор.
Повсюду химеры и толпы теней.
Стоят пионеры у вечных огней.
Никто не скорбит. Всё сгорает дотла.
Промозгло, знобит, хоть погода тепла.
* * *
Где-то раз в пятилетку в четыре года он застывал
в кресле или лицом к стене на кровати под
ужасающей копией Шишкина в раме. Провал
был глубок и черен. Кататония. Год
его лечили. Сначала в больнице, потом
сам раз в неделю ходил на Канатную в диспансер.
Теперь диспансер разрушен – там строят высотный дом
для психнормальных граждан бывшего СССР.
Не жаль коридоров и кабинетов, справок «не состоит
на учете» для получения водительских прав, или еще чего.
Но кататоник приходит к старому месту, столбом стоит,
чувствует как проходит новая жизнь сквозь него.
Раньше хоть были виденья и голоса,
теперь и это пропало – мельканье, неясный гул,
пустота вместо мыслей – вот и все чудеса.
Закроешь глаза – как будто в бездну взглянул.
Скорей на троллейбус девять, домой, лечь на кровать,
ждать, когда дочь придет и приведет внучат.
Пусть звонят, зовут и стучат – не открывать,
зубы сцепить, не открывать, пусть зовут и стучат.
* * *
девочка загоравшая нагишом на пляже
ходит по улице в камуфляже
война не война но такой сезон
подобает нежным девам и жёнам
быть народом вооружённым
до зубов до серёжек новый фасон
десять лет тому я их знал другими
они на пляже лежали нагими
если не нравится то не смотри
но это нравилось и смотрели
а девочки полностью загорели
без полосок снаружи без смущенья внутри
может тогда они были правы
что им было всем до солдатской славы
джинсы были милее чем бронежилет
они изменились вокруг перемены
на стройных ногах проступают вены
как-никак прошло уже десять лет
* * *
детям читают рассказы Бианки о животных и о природе.
позже добавят сюжеты о барине и народе,
о пролетарских кружках в Петербурге, о броневике,
о лысом гении с кепочкой в кулаке.
но броневик проржавел и кепки теперь не в моде.
а кто облысел тот может ходить в парике.
щека перевязана – вдруг патруль остановит!
но никто ему не прекословит, никто не ловит.
колесо истории катится по прямой.
барин глуп, а народ слепоглухонемой.
Ленский поёт что день грядущий ему готовит.
крокодил говорит грязнуле – лицо умой!
и грязнуля смывает лицо вместе с грязной маской.
не получилось розгой, попробуйте лаской,
не получится – есть ещё петтинг, чтоб возбудить аппетит.
кухарка пошла во власть, к услугам твоим общепит.
училка лупит по пальцам железной указкой.
ученик не пикнет, а цыплёнок пищит.
лысый чёрт идёт в кепке, сбрита бородка.
основы жизни – водка, лодка, молодка.
антикварный серп продают с винтажного молотка.
рёва-корова, заткнись и дай молока.
кучерявый чубчик в тюрьме – пятая ходка.
жаль, что искусство вечно. жаль, что жизнь коротка.
* * *
ели картофельную шелуху варили крапиву
повторяли пословицу не до жиру хоть быть бы живу
мальчик учит сказку про гипотенузу и катет
керосина в лампе на донышке на вечер не хватит
помянем на ночь советских бабушек наших
постниц и праведниц не хуже древних монашек
я корова и бык я мужик хоть и баба все мы гермафродиты
мужья убиты дети голодны внуки хоть будут сыты
внуки будут сыты правнуки возмужают
займутся бизнесом встанут на ноги праправнуков нарожают
построят виллы с башнями зубцами и флюгерами
здесь в степи или там за морями и за горами
в общем всё уладится у всех перспективы
шелуха картофеля вкусный суп из крапивы
сбор колосков по ночам поход в порожнюю лавку
а народ всё толпится не подойти к прилавку
выпьешь чашу скорби правнучек дам добавку.
* * *
Если и вправду смотрит сверху – что видит? Извилистые берега
с желтой кромкой, сине-зеленую воду, вкрапления островков.
Там, где теряешь друга, обычно находишь врага.
Там где теряешь Бога, сам исчезаешь – и был таков во веки веков.
Если и вправду приснятся сны, то воды будут светлеть в желтизну
на отмели, и уходить в темную зелень, на глубину, от низкорослых гор
тени лягут к востоку, постепенно вытягивяась во всю длину,
если и вправду смотрит сверху – то смотрит долго, в упор.
Воды, возвеселитесь, радуйтесь, многочисленные острова,
радуйся, боль, задыхание, «роковое в груди колотье»,
В Адама вставили речь, как пружинку, – и он говорит имена, слова,
а вослед именам, словам, глядишь, и мир войдет в бытие
* * *
Если не приближаться и не задерживаться, скажем так,
а проплыть по реке на колесном пароходике, напевая в такт,
ритму машины, плеску воды, крутя в зубах стебелёк,
пытаясь на глаз определить, насколько далёк
путь до усадьбы, прилепившейся на холме,
и кто там живёт, как в тюрьме, и что у него на уме.
Что он наденет сегодня – полушубок или пальто
и как зовут его люди – Некто или Никто.
Кто ему самовар раздувает, как положено, сапогом,
кто ночью его раздевает, думая о другом
в обоих смыслах. К примеру, о другом, как об ином
мужчине, иль о другом, как предмете любом,
не относящемся к ночи, постели, в скованном сном
доме, принадлежащем тени над свечкой
с золотым освещённым лбом.
Если не приближаться, тебе всё равно, кто такой
на белом листе бумаги размещает строку под строкой.
Ты не знаешь, кто в лесу нашел большой ядовитый гриб,
изжарил для всей семьи, со всей семьею погиб.
Пять гробовых крышек прислонены к стене
церкви – мал-мала-меньше, но все это не
имеет значения, если близко не подходить,
а глядеть с пароходика, как тянется серая нить
унылой дороги, на домики большака,
просто стоять, ощущая, как подёргивается щека.
Тут ловят больших рыбин. Опознают в них тех,
кто утоп в прошлом году. Чтоб не случился грех
отпевают беднягу: осетр, щука иль сом,
в котором душа покойного плыла, забыв обо всём,
что было, что будет, и, главное, то, на чем,
успокоится сердце, о белой берёзке с черным грачом,
нахохлившимся, спрятавшим клюв под крылом,
о мире за небосводом, как за мутным стеклом.
* * *
Если немного вытянуться, получается упираться
макушкой и пятками в спинки детской кровати.
Никелированные спинки с большими шарами.
Значит, ты уже вырос. Пружины матраца
давят в спину. Слой медицинской ваты
изнутри утепляет двойные рамы.
В изголовье грубо цветёт китайская роза.
Серый коврик вышит болгарским крестом: девочка с шаром,
жмётся к синим сандаликам розовый песик.
Кулек целлофановый, карамельки Деда Мороза,
от профсоюза, детсада, подарок, не нужно и даром.
Безумная нянька Анька кричит: «Вставай, недоносок!».
Емеля едет на печке на переплёте «Русские сказки».
Щука плещется в проруби: ей недолго осталось.
Отец сидит, оградившись газетой от миру-мира.
В прихожей стоят наготове подаренные салазки.
Вчера выпал чахлый снег. Может быть, продержится малость.
Вероятно, купили ёлку. Пахнет хвоей квартира.
А вот и она, ёлка, в углу, стянутая бечевкой туго.
Рядом с ней продырявленная крестовина из белых досок.
Да, ёлка стоит в углу, а вчера ещё не стояла.
Безумная нянька Анька, она же – прислуга,
упирая руки в бока, кричит: «Вставай, недоносок!»
Значит, мама ушла. Придется выбираться из-под одеяла.
* * *
если уж выпало жить под пятою тирана
лучше быть шипом или ржавым гвоздём
можно стоять под грузом подъёмного крана
рано ли поздно дождёмся того чего ждём
горец с кинжалом в зубах прыгает в зал с экрана
сладкая жизнь растворяется под осенним дождём
молча сижу за окном помалу светлеет
свет бывает серого цвета туман рулит
только в китае утром восток алеет
цветы прорастают из-под могильных плит
нас никто не любит и никто не жалеет
поскольку мы в добром здравии и у нас ничего не болит
от мыслящего существа остаётся мысль о финале
от детства плюшевый мишка на чердаке
от объятий юности скамейка в пале рояле
от истории де ришелье с фаллическим свитком в руке
от революции чёрные дни миновали
час искупленья пробил молотком по башке
от пушкина только год что прожил в одессе
то пыльной то грязной и парусники в порту
дама пик осталась при пиковом интересе
от удара в челюсть привкус крови во рту
погружённые в ужас мысли теряют в весе
не подводя итогов пора подвести черту
Ещё очередь
Очередь по-украински «черга». Кто
крайний, мы будет за вами. Пальто
на ватине, серый в крапинку драп.
По две пары жёлтых цыплячьих лап,
безнадежно высовывающихся из корзин,
в руках баб, покидающих магазин.
Кто был приучен стоять и терпеть,
в детском садике песни петь,
по две куры в руки, возьми, хоть роди.
Кто за тобой? Кто впереди?
Если бы чергу построить в кольцо
вокруг прилавка, чтоб прятал лицо
каждый стоящий в шарф шерстяной,
если б чергу глухою стеной
окружить, как внутренний двор тюрьмы,
по кругу, горбясь, ходили б мы.
И был бы прилавок недостижим,
но мы б не сказали это чужим.
А в центре был бы лоток, весы,
мурло, ухмыляющееся в усы,
закоченевшие птичьи тела,
сгущающаяся мгла.
* * *
жизнь разорванный текст включая пробелы и знаки
реставрации не подлежит осмыслить не удаётся
неровное настроение неравные браки
аборты разводы меньше мыслей больше эмоций
в лужице лжи плывёт кораблик из местной газеты
колонка редактора вести с полей репортаж из цеха
в воздухе носятся песни которые спеты
каждая нота фальшива но это не повод для смеха
* * *
задание на дом: изволь нанести на карту
незыблемые границы государства Урарту,
к которым не подойти на расстоянье стрелы
летящей, меча разящего, враждебного взгляда −
ощетинится копьями, окаменеет преграда,
враждебная сила сама не рада −
сжалась в комок и глядит из исторической мглы.
всё, что не существует, вечно и неизменно −
небытие подкрадывается постепенно,
чтоб нанести удар, и вечность твоя − верти
ею как хочешь: она затвердевает
под пальцами скульптора, то, чего не бывает,
как плод на каменном дереве созревает:
сиди ученик над картой, рисуй и черти.
тебе всё равно, что дорическая колонна,
как берёзка, одна стоит между камней Вавилона.
Изида с Венерою сёстры − зеркальные близнецы.
переселенье народов − броуновское движенье.
не влезай! убьёт! − высокое напряженье.
средневековье лоб разбивает о возрожденье.
мы стары, мы сами себе годимся в отцы.
мы мелкие сошки никем не написанной драмы.
на месте Урарту стоят армянские храмы,
а нам в толпе не протиснуться. ученик
сидит над руинами, над мраморными гробами,
нанесёнными на карту, над колоннами и столбами
телеграфными, над порванными проводами,
над скульптурами без хитонов и без туник.
ампутация рук носов и фаллосов на скульптуре,
отношение к сексу в давно погибшей культуре,
технология тирании − стенобитный прибор, бревно
с литою бронзовой головою барана…
крепки границы Урарту, надёжна охрана,
солнце зашло, закат зияет как рана,
но закату не больно, точнее, ему − всё равно
* * *
И сказал Каин Авелю: «Авель, пойдём в поле!
Авель, пойдём в поле, оглох ты что ли?»
Хлопнет дверь, скрипнет калитка. В щели прикрытых ставен
смотрят те, кто любит тебя, а меня ни во что не ставит.
Пойдём в поле, Авель, слышишь? Пойдём в поле!
По бревну, над ручьем, текущим по дну оврага,
вверх по скату, по тропке, не замедляя шага,
по пологим, заросшим терновником склонам,
по холмам, на которые серебристо-зелёным
облаком роща легла, вцепившись корнями
в глинозём, по плоской вершине, где большими камнями
очерчен контур святилища, над которым внятно
Голос звучал: «Каин! Бери свою жертву обратно!»
Идём, торопись, уже недолго осталось.
скоро начнется ливень, чтоб кровь быстрее впиталась,
вместе с проклятьем земле, что кровь твою примет.
Хорошо, что погибель твою никто у меня не отнимет.
Пойдём в поле, Авель, слышишь? Пойдём в поле!