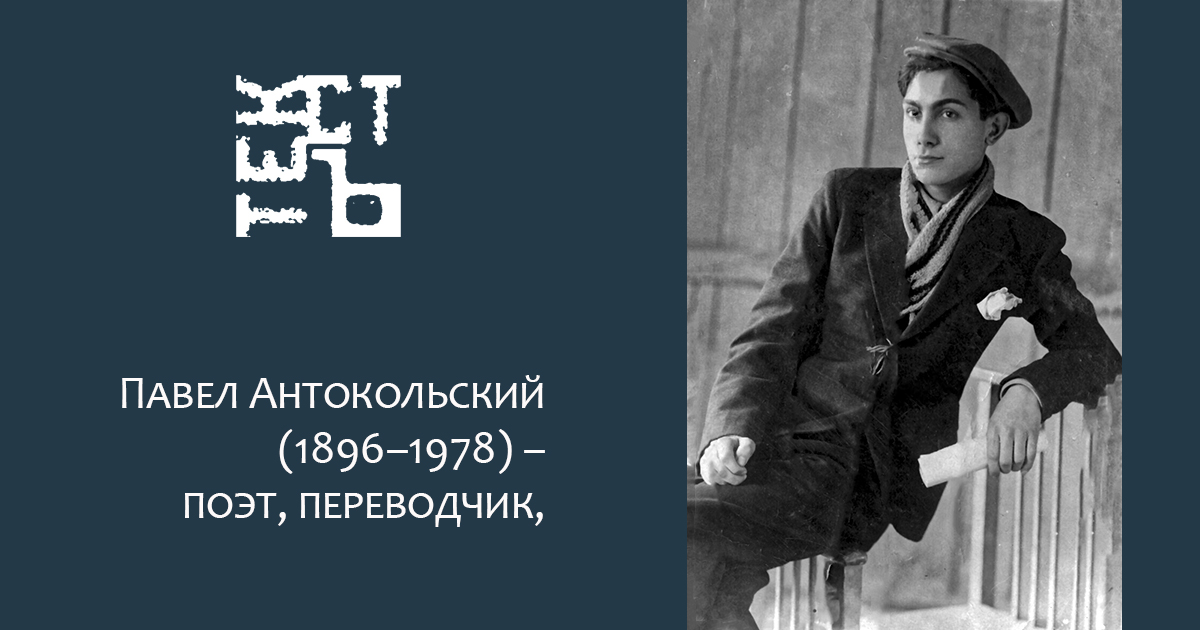Михаил Эпштейн:
Если бы у творческой жизни было свое биологическое воплощение, Алексей Парщиков, немного не доживший до 55, пережил бы всех. Рядом с ним все двигалось быстрее, и самые странные идеи и фантазии можно было потрогать, они становились явью. Причем в нем не было ничего от мессии, пророка, диктатора: он не требовал признания и подчинения, он просто разбрасывал, дарил, делился.
Точнее, он просто был, но так, что его бытие становилось событием для всех, кто с ним соприкасался. Это была закваска, от которой начинало бродить любое сколь-нибудь восприимчивое существо. Одним невзначай брошенным словом он мог определить вещь точнее, чем сорок тысяч критиков и -ведов.
У него был аболютный вкус на все образное, словесное, пластически-визуальное, причем дар не просто оценки, но подсказки, расширяющий, достраивающий, конструктивный. Он довоображал чужие стихи, картины, здания, города так, что они становились фрагментами его собственных, еще не написанных вещей, гораздо более интересных и фантазийных, чем предметы его оценок. Всему, чему он видел, он был сотворцом, причем он не переписывал, а дописывал, не исправлял, а достраивал.
Вот что писал ему Иосиф Бродский — они родились в один день, и в их честь можно было бы учредить 24 мая общий праздник новой поэзии:
«Алёша, Вы — поэт абсолютно уникальный по русским и по всяким прочим меркам масштаба. Говоря “поэт”, я имею в виду именно поэзию и, в частности, Ваши метафорические способности…»
Эти два поэта обновили образный код русской поэзии, создали новое ее дыхание, углубленное, затрудненное, прерывистое. И новое видение, которое можно назвать сетевым или «фасеточным» — столько разных граней мира преломляется в нем.
Поэзия Парщикова кажется трудной для восприятия, но в этом виновата не столько ее сложность, сколько плоскостность нашего мышления, разделяющего вещи по их практическим функциям. Вот как начинается стихотворение «Борцы»:
Сходясь, исчезают друг перед другом
терпеливо —
через медведя и рыбу — к ракообразным,
облепившим душу свою.
Читатель в недоумении: борцы, арена, спорт, чемпионат — ассоциативная цепочка уже готова; а причем тут ракообразные? Но в том-то и дело поэзии — расковать эти металлически жесткие цепи готовых ассоциаций, освободить ум и зрение. Чтобы мы увидели просто и ясно, как борцы становятся медвежисто разлапистыми, сплющиваются, как рыбы, и дальше, сцепляясь, топорщась локтями и коленами превращаются в раков, медленно переползающих взад и вперед. Перед нами — картина взаимопревращения всего живого.
Напомню, что метареализм — это поэзия многих реальностей, переходящих друг в друга. Прообраз и источник поэзии Парщикова и вообще метареализма — завершающая часть Книги Иова, где Творец мироздания выступает и как его первопоэт. Темой Парщикова была природность (животность, первозданность) культуры и культурность (техничность, инженерность) природы.
Еж прошел через сито — так разобщена
его множественная спина. (Еж)
В саду оказались удоды,
как в лампе торчат электроды… (Удоды и актрисы)
Душно в этих стенах — на коснеющем блюде впотьмах
виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист в пузырях. (Бегство-1)
Парщиков внес в русскую поэзию бесконечную сцепчивость, гирляндность, космическую протяженность образов-метаморфоз. Он умел представлять вещь во множестве углов, положений, проекций, но строго и зримо, без символической размытости и абстрактности.
Вот две его строки, одновременно первобытно-эпические и сверхавангардные:
А что такое море? — это свалка велосипедных рулей, а земля из-под ног укатила.
Море — свалка всех словарей, только твердь язык проглотила.
Языки волн напоминают о многоязычных словарях, о волнистых рулях велосипедов, заполнивших все мироздание до горизонта. Такова эпичность XXI века: взаимопронизанность биологической, семиотической и технической эволюции. Если это и «метафоры», то не более, чем такие научные концепты, как «язык генов» или «искусственный интеллект». И Парщиков был одним из первых, кто сумел найти для этого синтеза новый поэтический язык.
Алеша не успел примерно столько же, сколько успел, и от этого — двойная боль: утрата будущего. Я представляю, как гениально бы он старился, какими видениями новых, непрожитых своих возрастов обогатил бы свою лирику; какой грандиозный эпос, быть может, поэтико-эссеистический, «дантовский» синтез, создал бы на склоне лет! Он умер на подъеме, летящим, и нам остается смотреть ему вослед и довоображать мир по тем вспышкам-траекториям, которые он для нас прочертил.
Алексей Парщиков.
Из сборника «Днепровский август»
В.Ч.
Как впечатленный светом хлорофилл,
от солнца образуется искусство,
произрастая письменно и устно
и в женщине и в крике между крыл.
Так мне во сне сказал соученик,
предвестник смуглых киевских бессонниц,
он был слепой, и зерна тонких звонниц
почуял, перебрав мой черновик.
Я знал, что чернослив и антрацит
один и тот же завяли огонь,
я знал, что речка, как ночной вагон,
зимою сходит с рельс и дребезжит.
Что ж, есть у мира чучельный двойник,
но, как бы ни сильна его засада,
блажен, кто в сад с ножом в зубах проник
и срезал ветку гибкую у сада.
А на ноже срастались параллели.
И в судный день они зазеленели.
* * *
Озноб чеканки. Рябь подков.
Стоят часы. Стоят тюльпаны
и вывернутые карманы
торчащих колом облаков.
А через воздух бесконечный
был виден сломанный лесок,
как мир наскальных человечков,
как хромосомы в микроскоп.
* * *
Рокировались косяки.
Упали перья на костер.
Нерасшифрованных озер
сентиментальные катки.
А там — в альбомном повороте,
как зебры юные, на льду
арбитры шайбу на излете
зачерпывают на ходу.
Стоит дремучая игра.
Членистоногие ребята
снуют и злятся. Пеленгатор
воспитан в недрах вратаря.
Зима — чудесный кукловод!
Мороз по ниточке ползет
ко дну, где рыбьи плавники
на взводе стынут, как курки.
СТЕПЬ
Пряжкой хмельной стрельнет Волноваха,
плеснет жестянкой из-под колес, —
степь молодая встает из праха,
в лапах Медведицы мельница роз,
дорога трясет, как сухая фляга,
когда над собой ты ее занес.
Стрижет красноперая степь и крутит.
Меж углем и небом и мы кружим.
Черна и красна в единой минуте,
одежды расшвыривая из-за ширм,
она обливается, как поршень в мазуте
или падающий глазурный кувшин.
Привязав себя к жерлам турецких пушек,
степь отряхивается от вериг,
взвешивает курганы, и обрушивает,
впотьмах выкорчевывает язык,
и петлю затягивает потуже,
по которой движется грузовик.
Все злее мы гнали, пока из прошлого
такая картина нас нагнала:
клипом в зенит уходили лошади,
для поцелуя вытягивая тела.
За ними шла круговерть из пыли
и мельницу роз ломала шутя.
И степь ворочалась, как пчела без крыльев.
Бежала — пчелой ужаленное дитя!
COM
Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь как черный ход из спальни на Луну.
А руку окунешь — в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко
и стынет, словно ключ в густеющем замке.
ПТИЧКА
Вшит зингером в куб коммунальной квартиры,
кенарь – мешочек пунктиров,
поддевка для чайной души!
Пирамидальные трели о киль заостряет, граня,
и держит по вертикали
на клюве кулек огня – допрыгни до меня!
Любовник небес и жених –
кенарь и человек –
встречаются взглядом, словно продернутым через мушку.
Метнув звуковое копье,
ожидают его возврата, объятые обаяньем азарта:
придет ли царствие и чье?
Если гитару берет человек и пытается петь,
птичка от смеха и муки
белыми лапами рвет клеть.
Что ей певец человечий, или все кроманьонец
единый, как шов сварной на отводной трубе,
хоть и кормилец…
* * *
Весна — дворец стекла и камня.
В сосульке ампулка сидит
и раздает за каплей каплю.
Блажен весенний реквизит.
Пьянит веселости настой,
и пухнет водяной рукав,
пришитый лычками мостов
к шинели серого песка.
Чтоб доказать речную синь,
как апельсиновая корка,
плывет оранжевый буксир
для глаз отчаянный и колкий.
Лишь белооблачная Арктика
висит угрозой холодов
и изучает, как по картам,
ловушки спусков и дворов,
завинченность пролетов лестничных
и взвинченность моих тирад,
законсервированных в вечности
лепных девиц и колоннад.
Весь правый берег словно вырезан,
как из картона черный контур,
и далеко за город вынесен
резною стенкой горизонта.
Он постепенно растворяется,
огни насыпав кое-где,
искрится огненною рясой
на пестрых лицах и в воде.
ФОТО
Бегун размножит веером легко
от бедер дополнительные ноги,
сам за собой построится гуськом
и дышит сам себе в наспинный номер.
Он чертит майкой зубчатые стены,
а лопнет в нем пружина стадиона,
поочередно рушатся, как кегли,
лбы лба и руки рук с разгона.
Их снимки — неудачи в западне, —
как цепкие, трагические вороны,
над умывальником усядутся проворно
и распластают крылья на стене.
* * *
Гонит в глазницы стеклам —
разбиться наверняка —
встревоженная и мокрая
зебра березняка.
Стынет в разливе речки
вспыльчивости горячей,
прядает скворечниками
струнных пустых ушей.
ПАРК
Растенья, кроной испаряясь,
плывут, до солнышку сверяясь,
забрасывая невод тени,
выуживая части тела.
Мы, как античность из раскопок,
в развилках трещин, босиком.
В твоих губах, как нолик в скобках,
зевков дремучий чернозем.
Здесь неизменно много лет
прибой гофрированный лязгал,
вода затянута до глянца
шнуровкой весельных галер.
Гитара. Сумерки. Суббота.
Как две косы, по тактам мечется
одна шестнадцатая нота,
сбегая школьницей по лестнице.
И анфиладами аллей
слетается сюда тревога,
когда мы видим полубога
с дворовой армией своей.
* * *
В. С.
Ни эту глиняную стать,
ни свежесть звездного помола —
ни дать ни взять — не передать
без слепоты и произвола.
И мнее волшебных черепах
напомнила стенная утварь;
каленый свет вбирая внутрь,
керамика шипит в шелках.
Ах, нас расплющили уже
сии оракульские блюда,
одновременно, обоюдно
мы выплывем на вираже.
Печаль не знает торжества,
но есть такая точка грусти,
когда и по кофейной гуще
гадать — не надо мастерства.
* * *
Базар. Азы торговли. Бессарабка.
Толпится снедь, сминая продавщиц.
Бурак до крови ногтем расцарапан,
И нараспашку внутренности птиц.
Из мисок выкипает виноград,
шампуры счетов быстрые — дымятся,
как грамоты похвальные, висят
материки разобранного мяса.
Здесь кошки притворяются арбузами,
скатавшись в полосатые клубки;
лишив сердец, их сортируют с кузова —
котят и взрослых — в сетки я мешки.
Там белый кафель масла на лотках,
из пенопласта — творог, сыр и брынза,
чины чугунных гирь растут, пока
весы, сойдясь, помирятся мизинцами.
Над головой — скольженье водомерок,
которых стреха держит на слуху,
и разоренный рынок напоследок
линяет, оставляя шелуху.
ДНЕПРОВСКИЙ АВГУСТ
Проспи до августа — сквозь сон все разъяснится,
там от замашек звезд и сумрак боязлив,
холодных яблок набожные лица
уставятся на маятнички слив.
Пока базары в ягодной ветрянке,
где можно прыгать сквозь кружочки цен,
где у прилавков в пышной перебранке
ты — как на сцене, среди сцен!
Стручки прозрачные термометров присохли
к окошкам позвоночником шкалы,
над пристанью в испарине и соли
по шею в ртуть вошел предел жары.
Проспи до августа! Луны крошится эллипс,
и светится песчаник вслед ступням,
салюты крючьями вонзились и осели,
как ласты, подбегая к небесам.
И стружки ржаний будоражат сон
на бритых, словно рекруты, покосах,
а между алебардовых осок
луна растянута на тросах.
БАГУЛЬНИК
В подземельях стальных, где позируют снам мертвецы,
провоцируя гибель, боясь разминуться при встрече,
я купил у цветочницы ветку маньчжурской красы —
в ней печется гобой, замурованный в сизые печи.
В воскресенье зрачок твой шатровый казался ветвист,
и багульник благой на сознание сыпал квасцами.
Как увечная гайка, соскальзывал свод с Близнецами,
и бежал василиск от зеркал и являлся на свист.
* * *
Статичны натюрморты побережья:
трофеи солнца и мясная лавка,
где нас вода ощиплет и разрежет,
чтоб разграничить голову и плавки.
Засовы ящериц замкнут на валунах
безмолвие. Оно застрянет комом.
Висит, модели атома верна,
сферическая дрема насекомых.
Соборное вместилище лесов.
Высоковольтный дуб на совести заката.
И глупая лоза. И куклы сов.
И польский камышей. И зависть музыканта.
* * *
Тот город фиговый — лишь флер над преисподней.
Мы оба не обещаны ему.
Мертвы — вчера, оживлены — сегодня,
я сам не понимаю почему.
Дрожит гитара под рукой, как кролик,
цветет гитара, как иранский коврик.
Она напоминает мне вчера.
И там — дыра, и здесь — дыра.
Еще саднит внутри степная зона —
удар, открывший горло для трезвона,
и степь качнулась черная, как люк,
и детский вдруг развеялся испуг.
* * *
Как бережно отпаривают марку,
снимается с Днепра бумажный лед.
Переводной картинкой каждый год
мне кажутся метаморфозы марта.
И, как всегда, нисколько не иначе,
церква кристаллизуется из снов,
вся первый приз, она в балетной пачке
белилами запачканных лесов.
Магнитная, серьезная вода,
в ней полнота немых книгохранилищ,
в ней провода запущенных удилищ
и тронного мерцанья правота.
Опять причал колотит молотком
по баржам — по запаянным вселенным,
и звук заходит в воду босиком
и отплывает брассом постепенно.