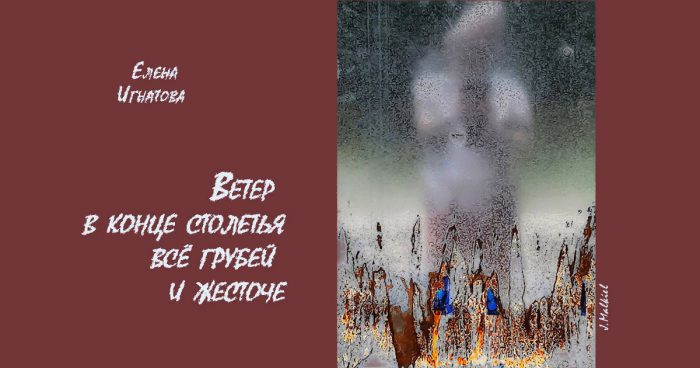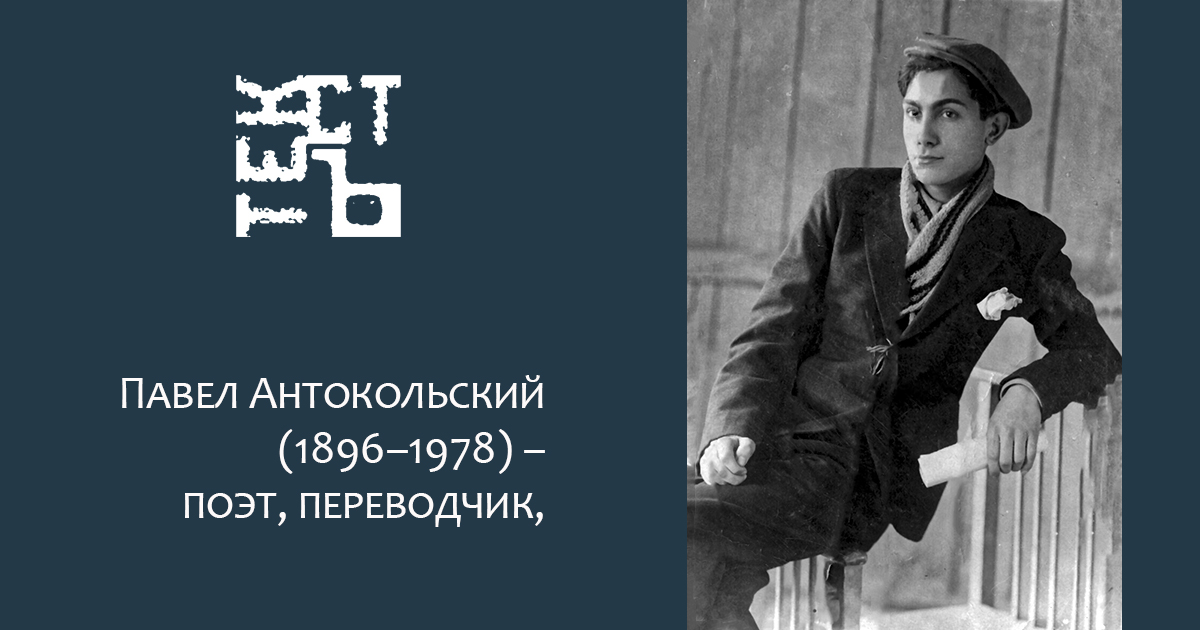10 июня 1947 родилась Елена Игнатова — поэтесса, сценарист.
* * *
Картина Брейгеля. На ней
охотники спешат с охоты.
И вышло небо зеленей,
чем лица спорящих парней,
поставленных вполоборота.
Остановись, остановись
охотник, не спускайся вниз,
и без тебя они в избытке –
приплюснутые телеса,
и надгрызают голоса
бумагу глянцевой открытки.
Добыча оставляет след.
Морозный день. Краплёный снег.
Толпа стоит на перекрёстке.
Собаки лезут сквозь кусты.
У них железные хвосты
и рёбра, пригнанные жёстко.
Спускается охотник. Вот –
деревня. Запах дыма. Вот
он в хижине с соседом пьёт.
За окнами уже темнеет.
Холщовый фартук над горой,
снег воспалённый и сырой,
детишек тупоглазых рой –
что зеленей, что зеленее?
1969
ЖЕНА ЛОТА
— Ты обернёшься?
— Нет.
— Ты обернёшься…
— Нет.
— И в городе своём
увидишь яркий свет,
почуешь едкий дым —
пылает отчий дом.
О горе вам, сады —
Гоморра и Содом!
— Не обернусь. Святым
дано соблазн бороть.
По рекам золотым
несёт меня Господь.
— По рекам золотым
несёт тебя Господь,
а там орёт сквозь дым
обугленная плоть.
— О чём ручьи поют?
— Там пепел и зола.
Над ангелом встают
два огненных крыла.
— Они виновны.
— Так.
— Они преступны!
— Так.
На грешной наготе
огня расправлен знак,
ребёнок на бегу —
багровая звезда…
Ты плачешь?
— Не могу…
Всем поворотом:
— Да.
1970
* * *
Ветер в конце столетья
всё грубей и жесточе,
счастлив тот, кто не хочет,
может не замечать, как калечит
всё, что мы надышали, сплели…
Ледяное пространство вод и земли
бесплодно, как при потопе.
Нас снимают слоями,
как в лихолетье солому с крыш,
тянет потом и серой,
ветер роет пыль пепелищ,
и ночами в бреду твердишь:
– Дай мне, Господи, веры!
* * *
Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то…
Но выцветает кровь. В истории твоей —
оливы шум, крестьянский запах пота.
Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит…
И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он ещё так плотен,
где в небе ходит кровь сожжённых городов,
где человек жесток и наг и беззаботен…
* * *
Когда на деревню плещет гроза кипятком,
берег разбила река и повалено жито,
бьёт Илия-пророк по облакам молотком,
а облака грузны, градом набиты.
Но открывается короб небесных сластей:
поле согреет, лесные гостинцы тешат,
и Богородица нежит небесных детей,
чинит рубахи им, мягкие волосы чешет.
Малым на радость Нисский рисует в полях
скользкий закатный воздух, потные крыши,
как молоком наливается к ночи земля,
месяц прозрачный — и самолёт повыше.
РОДСТВЕННИКИ
1
У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, её жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
«Тёмные аллеи, — бормотал, — тёмные аллеи…»
Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им…
Его зарыли в песок, вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?
2
Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом.
А за вагонным окном и мело и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.
Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты её рукава, прозелень глаза…
И осыпалась судьба — крошевом, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.
Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещенье иконе, —
хлебные крошки, обломки игрушки…
3
Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава те, Господи, не поглодали друг друга.
Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.
Хлеб с волокном лебеды горек и мылист.
Режется в чёрной косе снежная прядка…
Так за семью в эти дни тётки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.
4
Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей и речь
родине среднерусской промолвив «прости»,
я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
в чернопахотной смуглой горсти.
Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
что твой воздух вдохнет Судный ангел, приникнув к трубе.
Ибо голос о жизни Нетленной и Страшном суде
спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
и, нетвердо язык заучив, шелестя о судьбе,
обвисают над крышами крылья твоих тополей,
Голубиная Книга и горлица, завязь сердец…
Сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной.
Пьян от горечи проводов, плачет и рвётся отец,
и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной…
5
«Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
и стрелы падали у ног, а геты пили лёд…»
Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
изрежется о кромку льда и смертного испьёт.
И полисы не полюса, и те же в них постройки,
и пчёлы те же сохранят в гранёных сотах мед —
но с погребального костра желанный ветер стойкий
в свои края, к своим стенам пустую тень несёт.
Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста…
Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
не узнавая языка. И дышит чернота.
6
Спим на чужбине родной.
Месяц стоит молодой
над Неманом чистым, над тихой Литвой,
тот же — в Москве и Курске.
Речи чужой нахлебавшись за день
так же, попав в Гедиминову сень,
здесь засыпал Курбский.
Милое дело отчизна — полон,
чёрный опричник, малиновый звон
во славу Отца и Сына.
Жизнь коротка. И с тяжёлой женой
можно заспать на чужбине родной
память. А смерть обошла стороной.
Милое дело — чужбина.
Как образуется ложь на губах?
Слов раскалённых не выстудил страх,
желчь не разъела кристаллов словесных…
Жилиста правда и ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожжённым Смоленском.
«Господи, их порази, не меня!
Господи, этих прости — и меня!
Боже, помилуй иуду, иуду!»
И засыпает в глубоких слезах…
Сердце плутает в литовских лесах,
слово забывши, не веруя в чудо.
Но большеглазых московских церквей
свет ему снится и голос: “Андрей,
зерна — страданье, а всходы — спасенье!»
Первый петух закричал вдалеке,
клевера поле в парном молоке,
зерна, прилипшие к мокрой щеке,
и — сквозь зевоту жены — «Воскресенье!».
* * *
В просторных сетях диктатуры,
где камень, гранёный гранит,
тот ходит с улыбкою хмурой,
а этот стихи сочинит.
Монгольские крылья раскинув,
нависла и смотрит страна
глазами кремлёвских рубинов
и видит до самого дна:
тот пляшет, а этот заплачет,
живёт равновесье во всём,
а значит, порядок. А значит,
успеем и мы – проживём.
ДИПТИХ
1.
Детства страшный короб,
расписной снаружи, тлен внутри.
Отчий дом в недвижных разговорах.
Родственники. Пустыри.
Детства игры – прятки да пятнашки.
Душный ветер, свайка метит в лоб.
Тайное взросление неряшки,
короб за лошадкой – хлоп да хлоп.
Катится, скрипит. Удар – и оземь!
Пьяный мир, раскрытый до пупа.
Господи, как ярок и морозен!
Сыплет новогодняя крупа.
2.
Курва в избушке на курьих ножках,
бабьи россказни – смех и жуть.
Мёртвые куклы бредут по дорожкам
денег в колодце бадьей черпнуть.
Слизью ангины залеплены щели
горла. Шприц кипятят на огне.
В комнате тесно. Просторно в постели.
В книжках одно – о войне, о войне.
Курва в избушке похабной жизнью
вроде довольна, печёт колобок,
страха и недоверья к отчизне
первый молочный зубок.
* * *
Блокада. Простуда. Поленьев отрада.
Не надо о будущем думать, не надо.
Два сломанных стула. Два томика Блока.
И мирное время далёко-далёко.
Блокада и стужа – навеки вдвоём.
Блокада – и черный оконный проём.
Ты выживешь телом, ты духом умрёшь.
Ты станешь на каменный город похож.
Пройдёшь по цветущим садам Ленинграда –
здесь брат похоронен. Блокада, блокада…
По-прежнему воздух весной леденит,
по-прежнему памятник в парке зарыт.
* * *
Кащей, – говоришь, – Яга, юркие бесы
выбрались из замшелых ям и снова правят,
губят, жируют, мучают землю,
соки её добывая.
Да нет, те были как-то живее, что ли,
родом из тёмных снов, хвои сосновой,
хмеля болотных трав. А эти –
из гнили расстрельных подвалов,
слизи змеиной, Каиновой слюны.
* * *
Синий, палёный, отравленный воздух,
запах дождя, раскисшей известки.
Словно копейку на перекрестке,
родину кинули – «на!»
Что же запомнить: нитратную дамбу,
тухлую тушку Финского взморья,
парк зачумлённый для интуристов,
крепости бравый шпиль.
Здесь офицер от любви к Шульженко
выстрелил в сердце, здесь убивали,
и вырастали из мёртвых стебли,
папоротники, полынь.
Шепчется с листьями дождь моросящий,
и в паутине почтовый ящик,
где размокает на дне записка:
«Был. Не застал. Харон».
* * *
Ветер в конце столетья
всё грубей и жесточе,
счастлив тот, кто не хочет,
может не замечать, как калечит
всё, что мы надышали, сплели…
Ледяное пространство вод и земли
бесплодно, как при потопе.
Нас снимают слоями,
как в лихолетье солому с крыш.
Пахнет потом и серой.
Ветер роет пыль пепелищ,
и ночами в бреду твердишь:
– Дай, мне, Господи, веры!