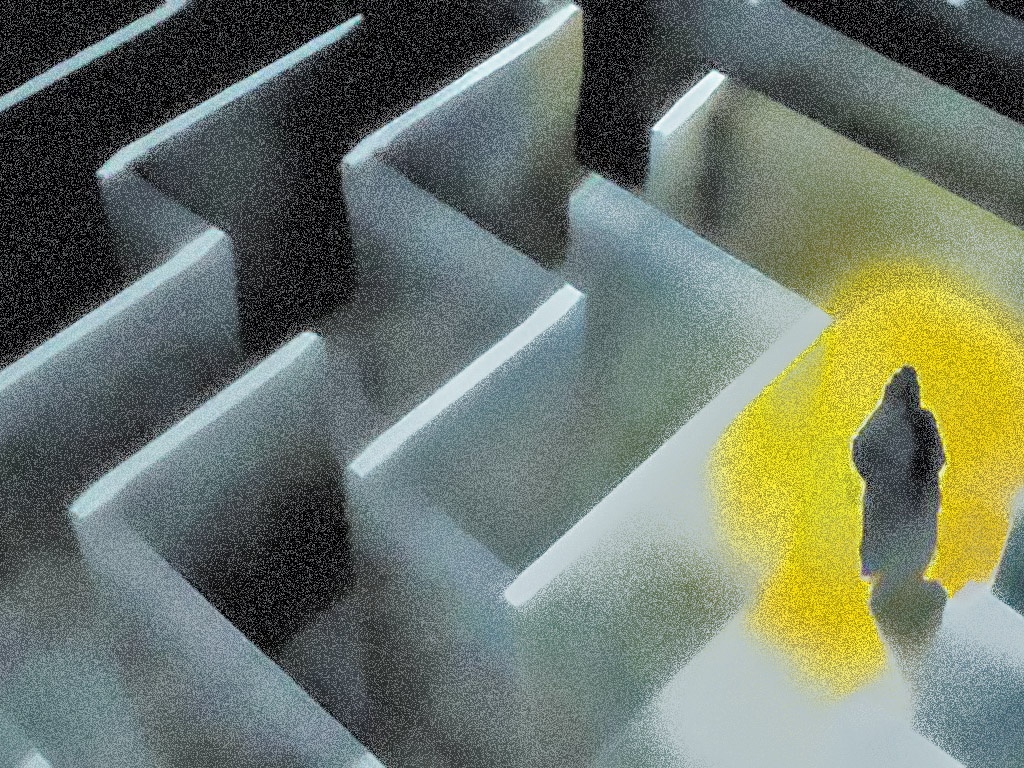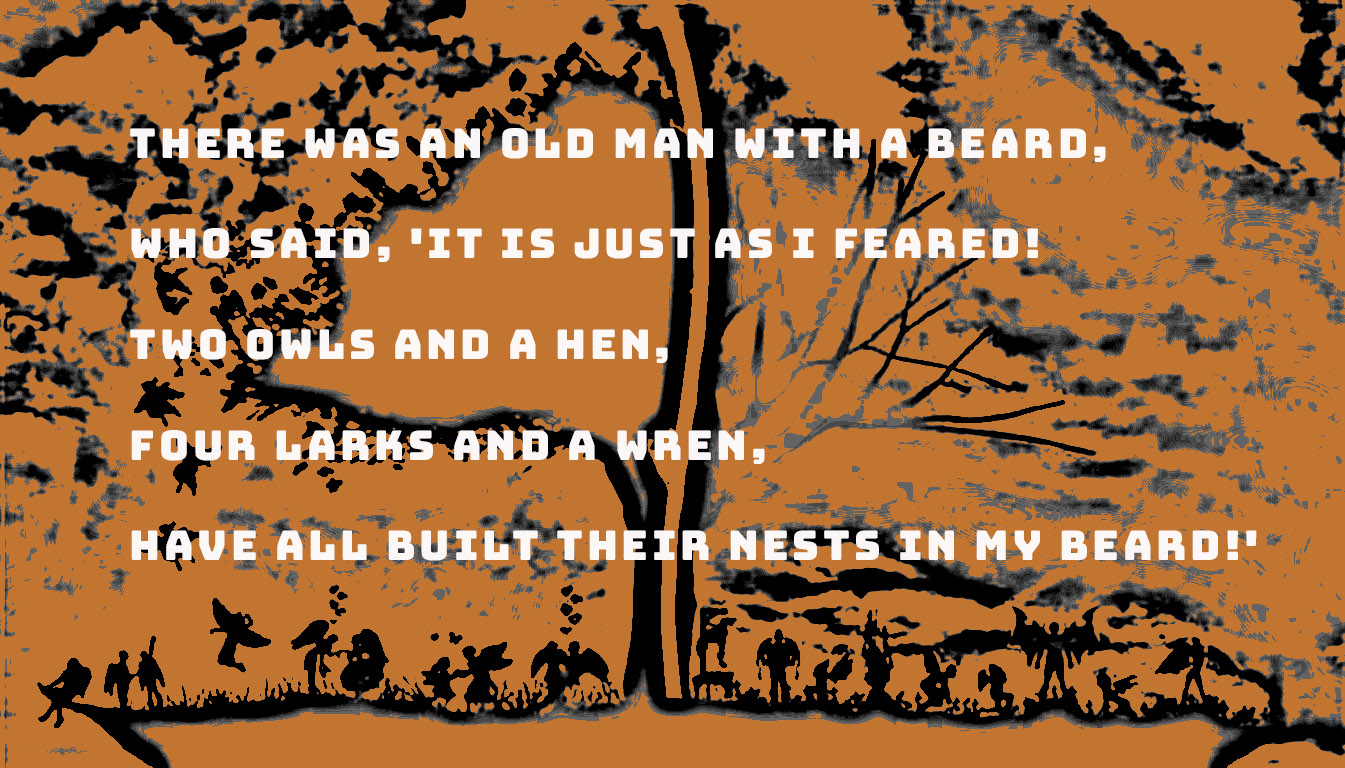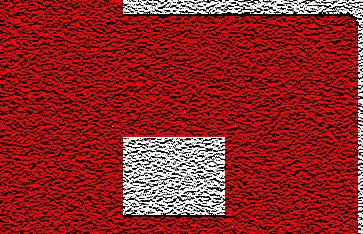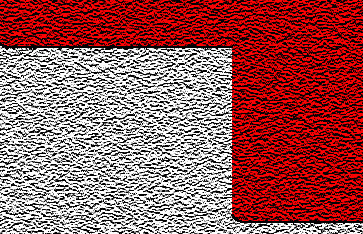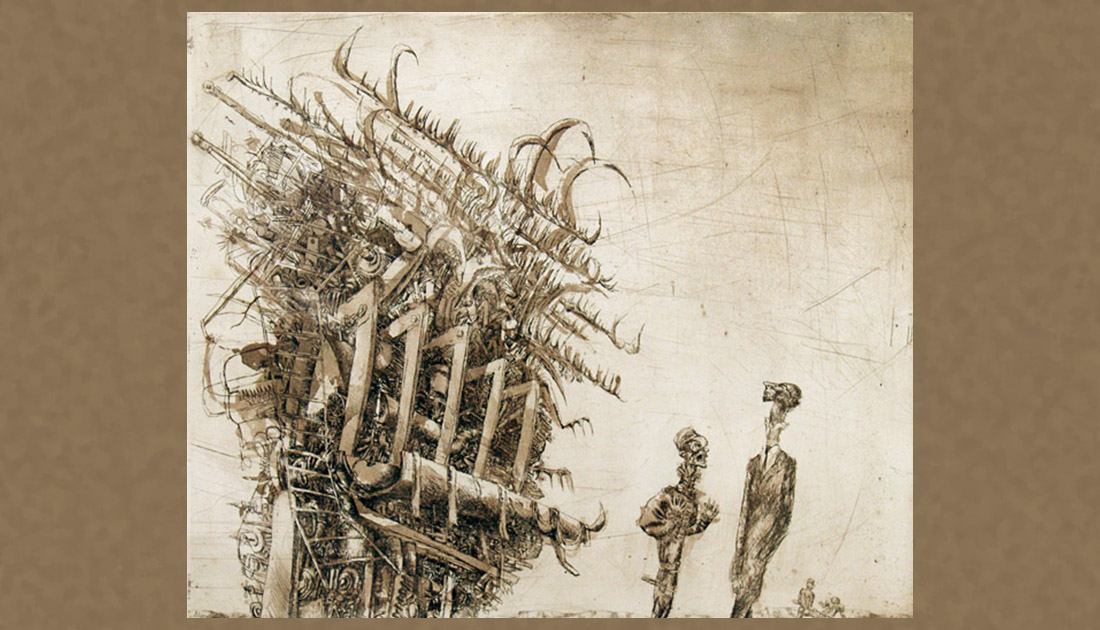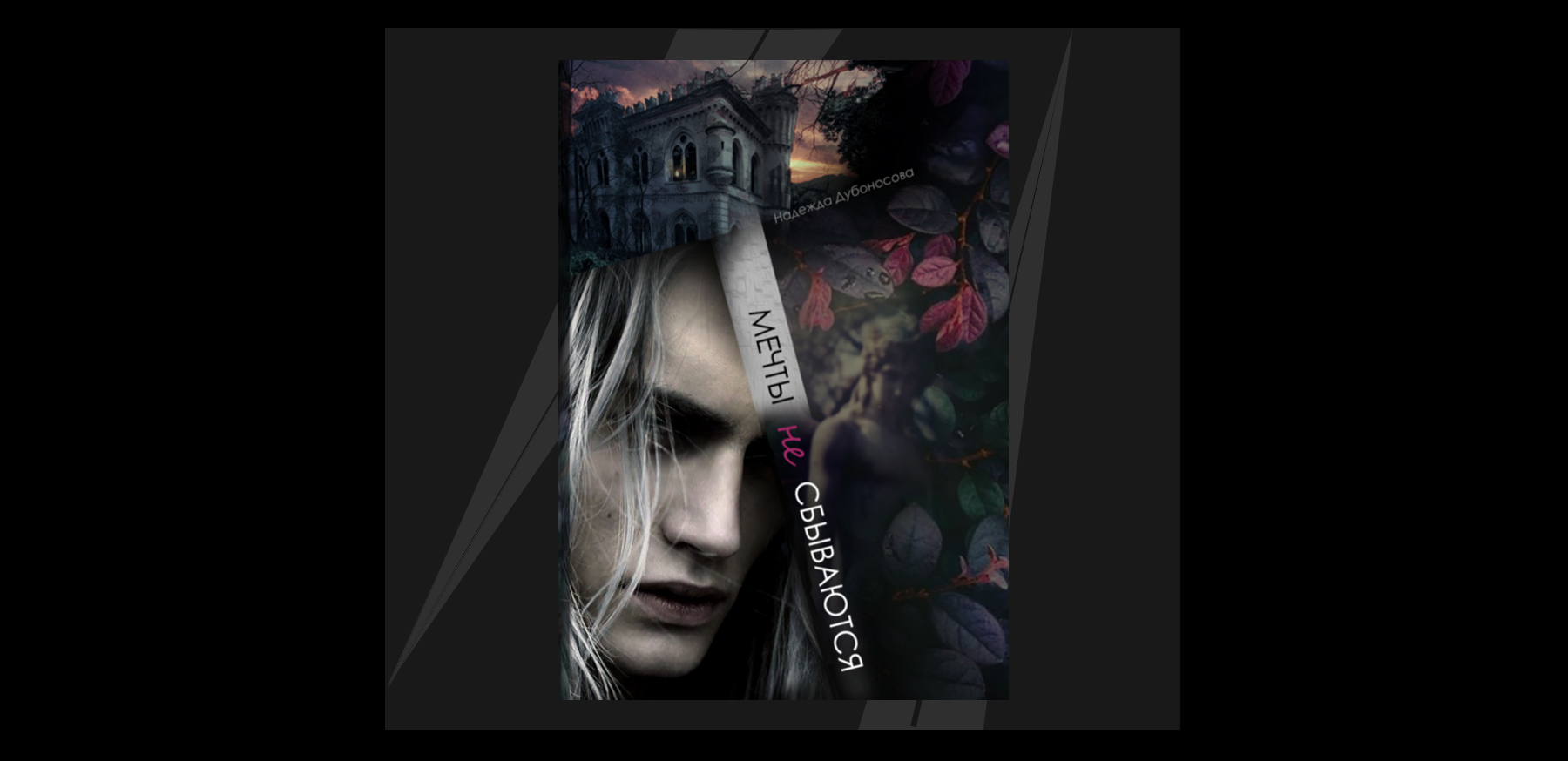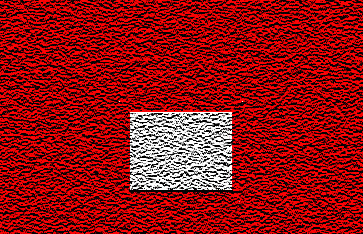В 4-м и 6-м номерах замечательного журнала «Тайные тропы» выходили мои «фрагменты фрагментов» из книги «Буква М» (ссылки – в комментах), которую я много лет пишу, надеюсь когда-нибудь дописать.
В 7-м скоро должны быть новые фрагменты. Чтобы облегчить вам ожидание. помещаю, с разрешения уважаемого Barukh-Alexander Plokhotenko(за что ему отдельное спасибо), небольшой текст, который, надеюсь, и вас научит молчанию о Малларме. Молчание о Малларме, поверьте, никому никогда не вредило.
Алексей Макушинскмй
Молчание о Малларме
У Ортеги и Гассета есть небольшой (в немецком переводе – всего пять страничек), по-моему – восхитительный текст, в котором рассказывается, как на двадцатипятилетие со дня смерти самого темного, самого сложного из французских поэтов (11 сентября 1923 года), девять почитателей Малларме собрались в мадридском Ботаническом саду, чтобы почтить его память пятиминутным молчанием. Имена остальных восьми участников ничего не говорят мне или говорят, к стыду моему, немногое (Альфонсо Рейес, Энрике Диез-Канедо…); не в них сейчас дело. Редакция некоего журнала (в испаноязычном мире, должно быть, известного: Revista de Occidente) обратилась ко всем девяти с просьбой рассказать, о чем же они думали в течение этих пяти минут (вот с какими вопросами надо обращаться к писателям, замечу уж в скобках); мне, увы, известен только ответ Ортеги; но и не в нем, в сущности, дело. Ответ хороший, хотя мой любимый философ (один из моих любимых) почему-то больше цитирует Данте, чем самого Малларме; особенно хорошо начало ответа. Что, собственно, вы понимаете под словом «думать», уважаемый господин редактор? так начинает свой ответ Ортега. Случайные образы, возникающие в сознании? Поток ассоциаций, по которому мы плывем, повинуясь его прихотям и изгибам? Или то упорядоченное мышление, при котором мы, наоборот, противостоим произволу простого ассоциирования? Конечно, это самое важное. И да, как я писал уже выше, мы все валим в кучу, все называем мышлением; у нас нет даже отдельных слов для этих совершенно различных, по-разному направленных и устроенных форм мозговой деятельности (или как раз не-деятельности, бездеятельности, пассивности).
Ортега лишь касается этой темы. Пять минут в совместном молчании тянутся долго, пишет он далее. Все девять участников были смущены; боялись, что их побеспокоят; не знали, что делать, когда перед ними вдруг возник случайный прохожий; почувствовали облегчение, желание немедленно начать говорить, как только пять минут, наконец, истекли. Они смущаются, но не смеются: вот самое для меня поразительное; они проделывают все это всерьез, не борясь ни со смехом, ни со слезами смеха. А я бы прежде всего боялся расхохотаться, если бы стоял и молчал о Малларме в такой большой компании. Стоять с умным видом и молчать о Малларме целых пять минут в компании из девяти человек – и не расхохотаться? Не встретиться взглядом ни с одним из сомолчальников (с Альфонсо ли Рейесом, Энрике ли Диез-Канедо…), а если вдруг встретился, то – не прыснуть, не взвизгнуть, не согнуться в три погибели, в четыре погибели? Я этого не понимаю. Я молчу о Малларме в одиночестве, и если смеюсь, то незримым миру смехом, лучшим смехом на свете.
А о ком же еще и молчать, если не о Малларме? Ортега пишет о молчании у самого Малларме, о молчании, вернее – умалчивании, как об основном свойстве поэзии Малларме, совпадающем, по мнению философа (которое я не разделяю), с основным свойством поэзии как таковой. Задача поэзии будто бы в том, чтобы, прямо ничего не называя, лишь указать на предмет, вещь, явление, только намекнуть на него, а читатель уж должен сам догадаться, о чем идет речь. Если имя вещи умалчивается, оно становится «драгоценной загадкой», которую мы, значит, и разгадываем, утверждает Ортега, приводя почему-то (как я уже сказал) примеры не из Малларме (видно, было лень искать), но из Данте («крупнейший дол, где волны бег свой мчат»; отгадка: Средиземное море). Перифраз – вещь, конечно, прекрасная, кто ж спорит, да и к антономазии мы не равнодушны, но поэзия к ним уж точно не сводится (не сводится вообще ни к чему): и как не вспомнить тут чудесное замечание Ходасевича (в статье о Цветаевой), что и сам Рафаэль был бы не прав, если бы стал писать по принципу «загадочных картинок»: дан пейзаж – найдите спрятанный в нем портрет. «Пусть даже этот портрет окажется отличным – все же художество должно оставаться художеством, а ребус – ребусом.»
О молчании у Малларме – или без «у»: молчании Малларме – можно говорить еще и в ином, гораздо более всеобъемлющем смысле. Ортега не вспоминает об этом, но мы, вкратце, вспомним. «Как океан объемлет шар земной», так молчание окружает все им написанное, из этого молчания вырастающее и в нем опять исчезающее. Ведь мир, по Малларме, существует для того, чтобы превратиться в книгу, le monde existe pour aboutir à un livre. Мечта о такой книге (Книге: в единственном числе и с большой буквы) – главная, если я правильно понимаю, мечта всей его жизни, особенно второй ее половины. Это мечта об абсолютной, окончательной книге (Книге), вбирающей в себя и тем самым отменяющей все прочие книги (мне уже приходилось писать об этом: давным-давно, в эссе «Идея книги», вошедшем в сборник «У пирамиды»). Все прочие книги «случайны и субъективны (писал я в том давнем эссе); обстоятельства, при которых они были написаны, личность автора, его предубеждения и вкусы – все это накладывает на них свою роковую печать. Искомая “абсолютная” Книга должна быть от всего этого свободна; ничего субъективного, ничего случайного в ней быть не должно; она получает, следовательно, прежде всего негативные определения (как Бог в ”апофатической теологии”). Ясно, что такой книги быть не может; первое же нанесенное на бумагу слово уже будет как-то связано с личностью автора, значит – ”субъективно”, каким-то образом соотнесено с конкретными обстоятельствами писания, с местом, и временем, и историей, в этом смысле – ”случайно”. Потому такая “абсолютная” Книга остается как бы пределом мысли, чистым листом бумаги. Как бумага проступает из-под букв, между строк, так эта искомая и недостижимая чистота, белизна, безотносительность, неизбежность проступает за всеми словами и фразами – мистическое Ничто, буддистская Пустота.» Или (теперь мы можем добавить) – безмерное, предмирное Молчание, в котором тексты Малларме как будто истаивают.
Но главное для меня все же не в этом. Сама идея, или затея – пять минут молчать о Малларме, – вот что мне по-настоящему нравится. Во-первых, для этого Малларме читать не нужно, а моего французского на чтение Малларме все-таки не хватает. На что другое хватает, а на чтение Малларме не хватает. Молчать о Малларме – это лучшее, на что я способен, когда дело касается Малларме. Да и вообще никаких познаний во французском не нужно, чтобы молчать о Малларме. Молчать о Малларме может каждый. Нет более демократической процедуры, чем молчание о Малларме, недемократичнейшем из мировых поэтов. И да, еще раз, молчать нужно именно о Малларме, о ком же еще? Что можно намолчать о Верлене? Боюсь, что даже о Бодлере ничего толком не намолчишь. То ли дело молчание о Малларме. Пять минут в день помолчишь о Малларме – и душа твоя успокаивается, просветляется. Не утверждаю, конечно, что молчу о Малларме ежедневно; ежедневно я даже в дзен-буддистской медитации (дза-дзене) теперь не сижу (а ведь когда-то сидел; не мог и жизни своей вообразить без дза-дзена); но хоть раз в неделю помолчать о Малларме – это, по-моему, задача вполне осуществимая, не чрезмерная, даже скромная. Всего-то пять минут в неделю – а сколько пользы для души и для духа. Когда я в последний раз молчал о Малларме (позавчера утром, в висбаденском парке, тоже до некоторой степени ботаническом), острый ветер пробегал по очень красным американским кленам, красноватым европейским букам, по легколиственной японской софоре, раскидистому амурскому бархату, китайской давидии (парк немецкий, так что таблички с этими экзотическими названиями прибиты к многотерпеливым стволам; не думайте, что я такой умный), по старинным и раскидистым липам, крымским липам, кавказским, маньчжурским, как раз покрывшимся своими прозрачными, переливчатыми, медвяными, молекульными соцветьями, которые, мне казалось, со мной вместе молчали о Малларме; многослойно-сверкающие, рыхло-плотные облака, цеплявшиеся то за одну крону, то за другую, молчали о нем же; если я скажу, что по краю моего молчания прошел, в конце концов, сам Малларме, то вы мне не поверите и будете правы. А вот недавно в Нанси я видел человека с бородкой Малларме, усами Малларме, прической Малларме, глазами Малларме, бровями Малларме и даже ушами, показалось мне, Малларме. Одет он был в старые джинсы, в майку с эмблемой какой-то футбольной команды, сидел на лавочке, смотрел на прохожих и молчал не о Малларме, я уверен. Если же и он молчал о Малларме, то этого, увы, никто никогда не узнает; разве что сам Малларме.