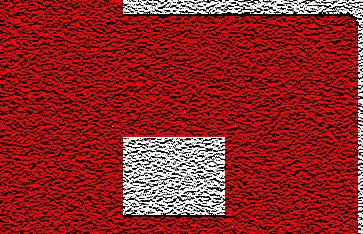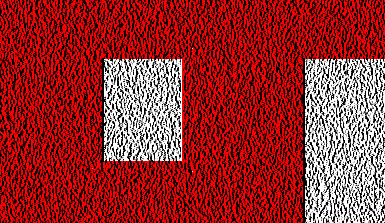Екатерина Дмитриева
Статья посвящена категории молчания, своеобразно раскрывающейся в творчестве С. Малларме и О. Мандельштама. Общеизвестно, что европейские романтики, а вслед за ними и символисты в поисках нового языка новой эпохи стали выводить на первый план категории ритма, суггестии, музыкальности и молчания — как часть того неведомого, что присутствует в языке. Е. Дмитриева прослеживает развитие этой категории в поэзии Мандельштама и анализирует ряд стихов, испытавших на себе отчетливое влияние Малларме.
Семиотика молчания, или Как по-разному понимали ее
Малларме и Мандельштам
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…
О. Мандельштам. Silentium
О молчании человечество, кажется, размышляло с древних времен. В свое время еще Плотин говорил о беседе души с Богом, чье присутствие живо лишь в тишине. Л. Витгенштейн писал о «невыразимом», которое являло себя в мистике. И любая попытка перевести внутренний опыт в речь его искажает. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»1. Существует известная и часто цитируемая фраза П. Клоделя: «Великие истины сообщаются лишь в молчании» («Атласный башмачок», 1924). Тема эта вообще неисчерпаема, и написано о ней многое2.
Нас же в данном случае будет интересовать следующий эпистемологический казус: дело в том, что, когда романтизм отказался от претензии слова на исчерпывающее описание мира, то возникло своеобразное двоеверие — вера в существование невыразимого сочеталась с сохраняемой верой в возможности языка и сознания. Там, где классическая эпоха мыслила оппозицией «рациональное — иррациональное», стали искать ту составную часть неведомого, которая исходит от языка, но не укладывается в понятие Логоса. В этом русле становится понятно, почему романтики, а вслед за ними и символисты в поисках этого нового языка стали выводить на первый план категории ритма, суггестии, музыкальности и… молчания — как элемента того неведомого, что присутствует в языке. То, чего не может язык, может молчание. И все же проблема оставалась: каков способ выражения этого молчания?
В безнадежных поисках абсолюта:
белый лист Малларме
Именно над таким вопросом в последней трети XIX века задумывается С. Малларме, и его творчество в этом поиске, который, казалось бы, объединяет его с немалым количеством таких же взыскующих, занимает совершенно особое место.
Проблема заключается в том, что абсолютное молчание как отмирание (фрустрация) языка (то, что французы именуют l’anéantissement du langage) есть нечто, принципиально не имеющее формы выражения и не способное иметь коммуникативную функцию. Последнее, казалось бы, лишает его статуса означающего, то есть семиотического знака. При этом среди психологов-лингвистов существует представление, что молчание как воздержание от внешнего языка — форма экзистенциально важная, берущая на себя некоторые функции, свойственные языку, — вообще не существует вне диалога. Или, иными словами, является элементом диалога3. Суждение это подкрепляется ссылкой на музыкальный текст, который, естественно, не может звучать вне пауз, — кстати сказать, так же, как и молчание, именующихся, во всяком случае во французском языке, словом silence (что создает своеобразный омономический каламбур). А также на опыт беседы (conversation), строящейся из чередования реплик и пауз между ними. Собственно, именно об этом говорил в свое время Ф. Ларошфуко: «Если сказать слово кстати — большое искусство, то кстати промолчать — искусство еще большее»4. В таком случае, конечно же, можно утверждать и обратное: молчание в функции воздержания от языка вполне способно играть важную семиотическую роль в диалоге.
У Малларме в его эссе «Об Эдгаре По» мы находим высказывание о так называемом «значимом молчании, сочинение которого не менее прекрасно, чем сочинение стихов» [Mallarmé 1945: 872]. Казалось бы, здесь намечается явное сближение с тем, о чем говорили и Ларошфуко, и Б. Паскаль — о превращении молчания в позитивную категорию языка. Но при этом замысел Малларме очевидно был значительно более амбициозным: говорящее молчание мыслилось им не как один из голосов среди множества других, сравнимый с паузами партитуры, которые в нотной записи имеют ту же означающую (семиотическую) функцию, что и сами ноты. Малларме искал способ представить молчание как самодовлеющий текст, некую вокальную (но при этом немую) длительность (то, что сам он называл continu vocal), не нуждающуюся в опоре на биполярность слова, которое в самом себе заключает одновременно и означающее, и означаемое. Более того, эта немая звуковая длительность должна была позволить ему выйти из той языковой темницы, ощущать которую начинают в ту пору многие художники. Не будем забывать, что в юности Малларме всерьез думал о карьере лингвиста и даже планировал писать диссертацию по лингвистике [Siouffi 1998].
Иными словами, необходимо было найти новый язык, порывающий с существующим языком (в том числе и поэтическим), но который бы нес определенную информацию, даже если она, в силу своей невербализированности, оставалась бы темной (эпитет, чаще всего применяемый к поэтическому наследию Малларме). Одним из наиболее значимых результатов этого поиска стала его поэма «Бросок костей». Малларме написал ее в 1897 году и оставил обильные заметки о том, как следует набирать текст, — инструкции, которые были окончательно выполнены лишь 16 лет спустя после его смерти, в 1914 году.
Примечательна была уже сама пространственная организация этой поэмы. Слова, по замыслу Малларме, должны были быть набраны разными гарнитурами и кеглем, разделены значительными пробелами, «цезурами». Строки были смещены, а расстояние между ними варьировалось вне всякой системы, что, конечно же, было обманкой, вводящей читателя в состояние одновременно смятения и поиска. При этом поэтическое произведение, таким образом задуманное, приобретало ощутимую, внятную визуальную форму. Развороты и горизонтальность текста были использованы в ущерб его вертикальности. Вся новизна, писал Малларме, проистекает из модальности чтения: пробелы, разбросанные и вкрапленные на первый взгляд весьма произвольно в тело текста, обретали особую важность.
Малларме сам отрефлектировал данный прием, когда в 1892 году Ш. Морис, поэт и теоретик символизма, попросил его написать несколько строк о «философии в поэзии». Тишина (молчание), писал он, может быть представлена как пробел или, лучше сказать, чистый лист бумаги. Арматура стихотворения, его интеллектуальная основа, скрывается в пространстве, которое разделяет строфы, а также в белизне бумаги чистого листа («parmi le blanc du papier»). Это и есть значимая тишина, сочинять которую не менее прекрасно, чем стихи. Молчание же есть функция, играющая решающую роль в композиции стихотворения, а также в том, что Малларме назвал «кризисом стиха».
Здесь важно отметить и ту языковую игру, которая стоит за данным художественным решением: по-французски пробел — le blanc — имеет своим омонимом обозначение белого цвета (еще один омономический каламбур). Получается, что естественный для глаза пробел между словами и строфами, беря на себя функцию той части страницы, которая обычно закреплена за полем, придает типографской игре особое наполнение. Белизна листа, на фоне которой проступают черные буквы, особо ощутимая по причине ее явного превалирования над текстом, словно инициировала диалог между видимым и читаемым. А само начертание букв уводило от привычной вертикальной модальности чтения, делая единицей восприятия разворот страницы и позволяя в восприятии множить текст почти до бесконечности. (Прием, который перехватили позже у Малларме участники группы УЛИПО и, в частности, Р. Кено с его сборником «Сто тысяч миллиардов стихотворений» (1961), где поэтическая закономерность построения сонетов оказалась перенесена в область математики.)
Уже первым читателям была очевидна совершившаяся у Малларме революция, вследствие которой язык, демонстрируя пространственность, в нем заключенную, прочерчивал рисунок «обнаженной мысли». «Мне казалось, что я видел фигуру мысли, впервые появившуюся в нашем пространстве», — писал П. Валери, для которого поэма, задуманная как «альбом абстрактной визуальности» («album d’imagerie abstraite»), как «идеографический спектакль кризиса или духовного перелома» (le «spectacle idéographique d’une crise ou aventure spirituelle»), представала передающей «мощь звездного неба» («la puissance du ciel étoilé») [Valery 1957: 624]. У литературы с появлением поэмы Малларме появилось таким образом второе, «табулярное» (tabulaire), измерение, подорвавшее дискурсивную логику языка.
Другие читатели и критики усмотрели в поэме аналог Евхаристии: читателям предлагалось разделить ее между собой, как верующие делят Тело Христово во время причастия. Сам же Малларме утверждал, что его книга — пиротехническое зрелище: слова запущены в небо и становятся там звездами.
Пространство текста таким образом прорастало глубиной. Как определил этот процесс М. Бланшо, Малларме — «единственный писатель, о котором можно сказать, что он глубокий, не в том смысле, что он открывает какой-то скрытый эзотерический смысл; но в том, что он придает языку конкретный объем, разворачивающийся в зависимости от ритма, тембра (высоты голоса), игры соотношений, задаваемых чтением страницы» [Blanchot 1990: 321].
Открывая таким образом «пространство», содержащееся в слове, Малларме возвращал языку силу — не миметическую, но образную, поскольку она проявлялась там, где язык одновременно абсолютно материален и одновременно абсолютно ментален. И действительно, рисунок текста, который в абстрактном смысле являлся у Малларме «фигурой мысли», а вместе с тем имитировал, в зависимости от ритма, заданного страницей, внешний вид корабля или мерцание созвездия, никак не мог расцениваться как образный (в отличие, например, от каллиграмм Аполлинера). Но он не был и абстракцией, а чем-то средним между «вразумительным» (intelligible) и чувственно воспринимаемым, между собственно абстракцией и фигуративным началом в момент их соединения, когда тайна букв превращается в немую загадку и когда уже не бытийно, но в прямом случае событийно можно сказать: «И лишь молчание понятно говорит».
Художники додумывают и дописывают Малларме
Если в белом пространстве листа Малларме нашел один из наиболее действенных способов выражения молчания (хотя были и другие), то свою поэзию он нередко сравнивал еще и с дымом от сигареты, то есть с чем-то ускользающим и эфемерным, что тоже стало для него неким семиотическим знаком. И эту особенность его письма наиболее остро прочувствовали художники. Здесь прежде всего можно вспомнить о «Портрете Стефана Малларме» 1876 года работы кисти Э. Мане, которого с поэтом связал род избирательного сродства [Перрюшо 2000]. Изображенная на портрете на переднем плане рука, покоящаяся на чистом листе бумаги, — символ особенного пути писателя, который не пишет, но откладывает свое творение на будущее, что во многом определяло творческую манеру и творческую депрессию Малларме. Так и сигара представала на портрете как небезразличная вещь: и как частая тема его стихотворений, и как суггестия пепла, являющегося одновременно и символом, и телеологией творчества. Портрет отражал тем самым не только облик поэта (лицо), но и его поэтику.
На самом деле, в тексте Малларме молчание (тишина) прозвучало также в несколько иной модальности, ощутить которую позволила одна из четырех иллюстраций, сделанная О. Редоном к типолитографической поэме Малларме «Бросок костей». Иллюстрации эти были созданы в 1898 году, то есть уже после смерти Малларме (издателем этой поэмы, как и «Послеполуденного отдыха фавна», был легендарный А. Воллар). Именно Редон, как показал в своей статье французский литературный критик Ж.-Н. Иллуз [Illouz 2019]5, прочитал в поэме приглушенно заданный мотив: смерть ребенка, сопровождающая крушение корабля. Эта смерть, исчезновение, проступает у Малларме в ряде алогичных, на первый взгляд, словесных ассоциаций, начиная с «одинокого пера» и вплоть до «тревожной искупительной и выстраданной немой насмешки», где само слово немой оказывается вынесенным в отдельную строку. «Немота», обреченность на вечное молчание (возможная аллюзия на ушедшего восьмилетнего сына Малларме, смерть которого остро прочувствовал и Редон, потерявший старшего сына), отсутствие шанса на то, чтобы обрести голос, оказываются прочитаны художником, рисующим головку ребенка на фоне звездного неба со знаком Быка, — картина, загадочность которой наполняется значением именно в контексте криптограммы тишина–молчание–смерть.
Несмотря на то, что «Бросок костей» задал мощный импульс всей последующей поэзии, несмотря на подражания и попытку развития того, что было заложено в поэме, опыт Малларме во многих отношениях был уникален, и даже обращение к нему в жанре hommage вряд ли означало повторение или приближение. Это стало очевидным в одной из самых ярких художественных инсталляций 1960-х годов, источником вдохновения для которой послужила именно поэма «Бросок костей» (была выставлена относительно недавно в Музее современного искусства «Гараж»6).
Суть данного хеппенинга7 заключалась в том, что его автор, М. Бротарс, попытался как художник довести до логического предела именно те открытия, что были сделаны Малларме в области поэтического письма. То, что поэтическое произведение может обрести (как это было у Малларме) ощутимую визуальную форму, не становясь при этом эмблемой или аллегорией (как это было, например, в фигурных стихах эпохи барокко), стало для Бротарса исходным импульсом и задачей: фигуративно, то есть буквально, показать, как поэзия входит в физическое пространство и становится фактом видимой и ощущаемой реальности.
Сценография выставки была решена соотношением черного и белого цветов: на панелях с изображениями черных прямоугольников были представлены двадцать страниц верлибра Малларме. При этом слова поэмы художник заменил черными линиями, расположение и типографские характеристики которых в точности повторяли текст поэмы. Пол галереи был выкрашен в черный цвет, стены — в белый (своего рода двойное обыгрывание темы молчания-тишины).