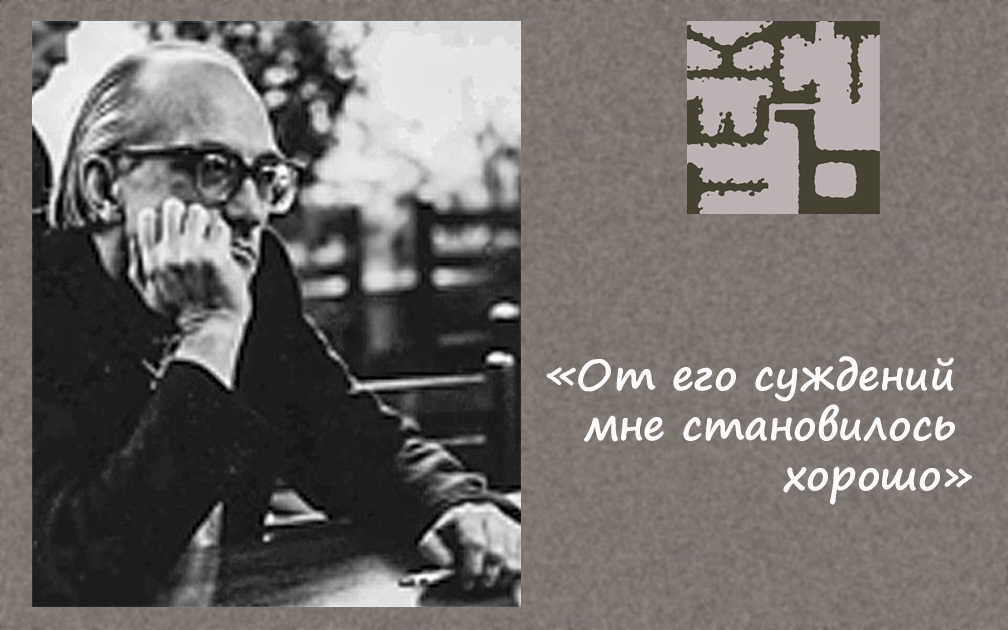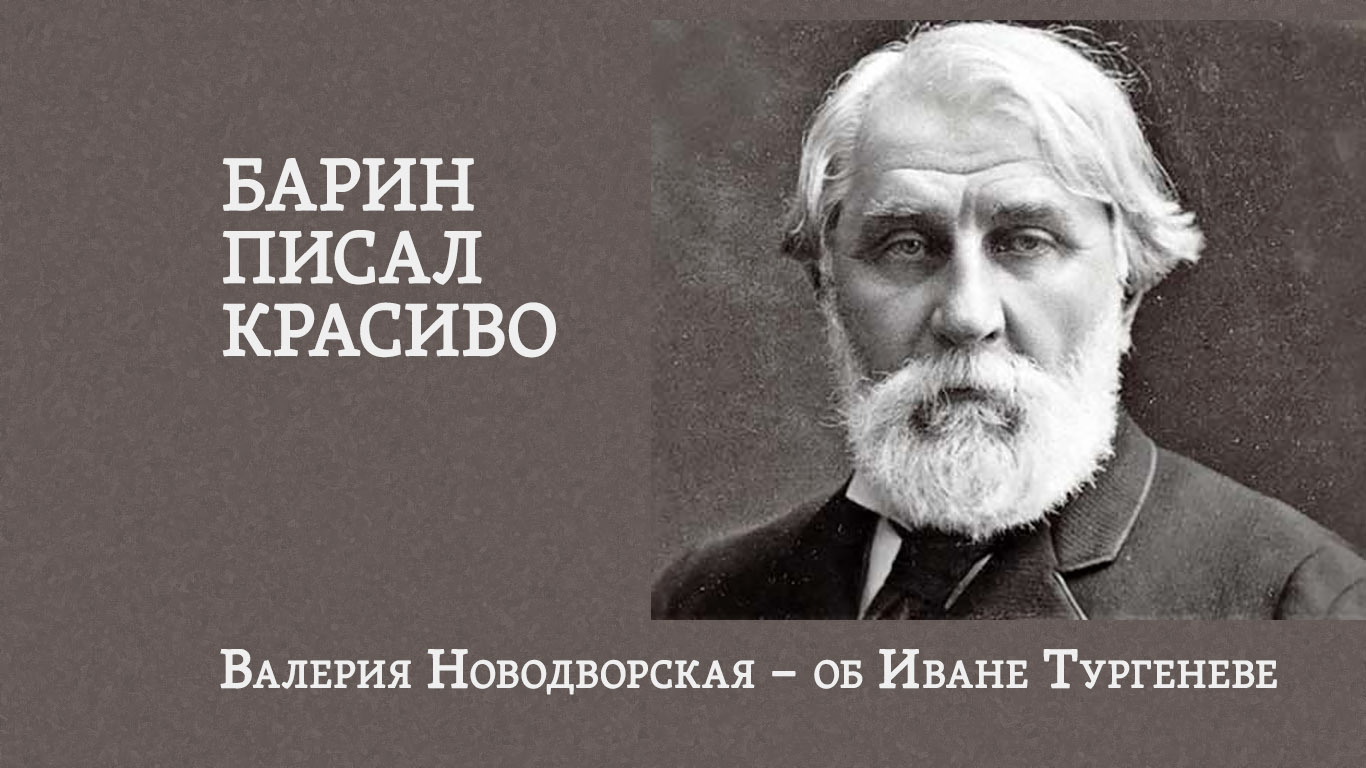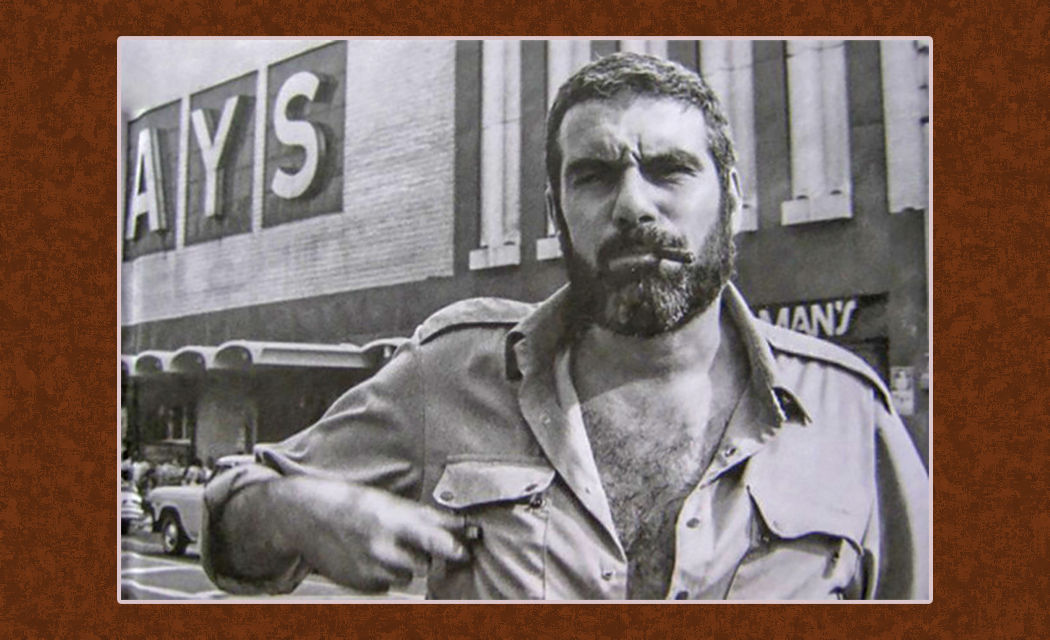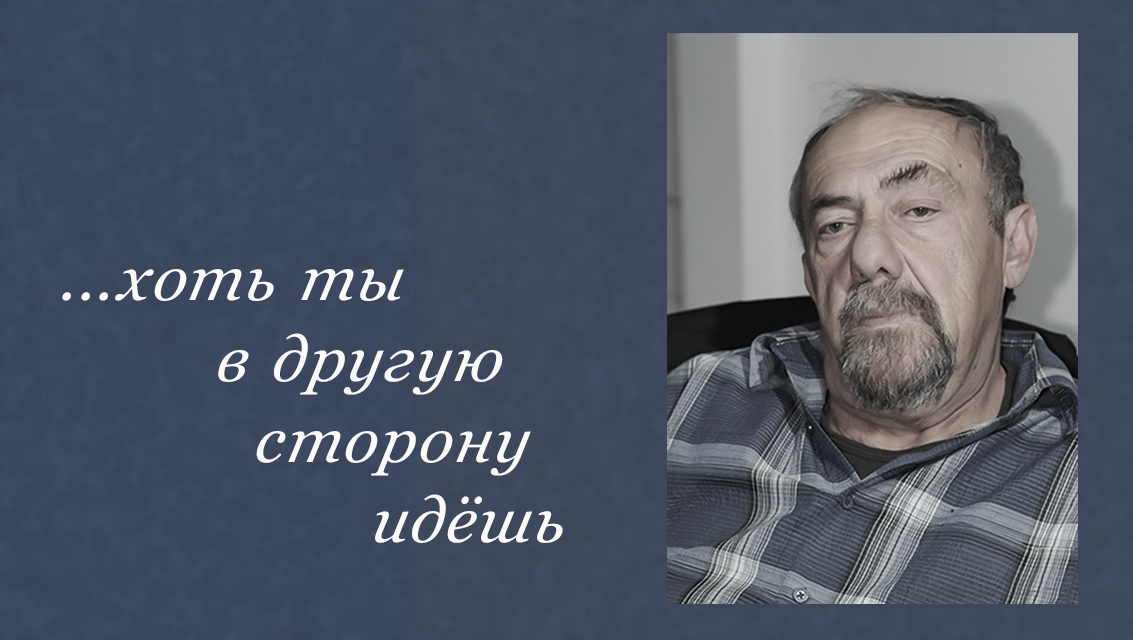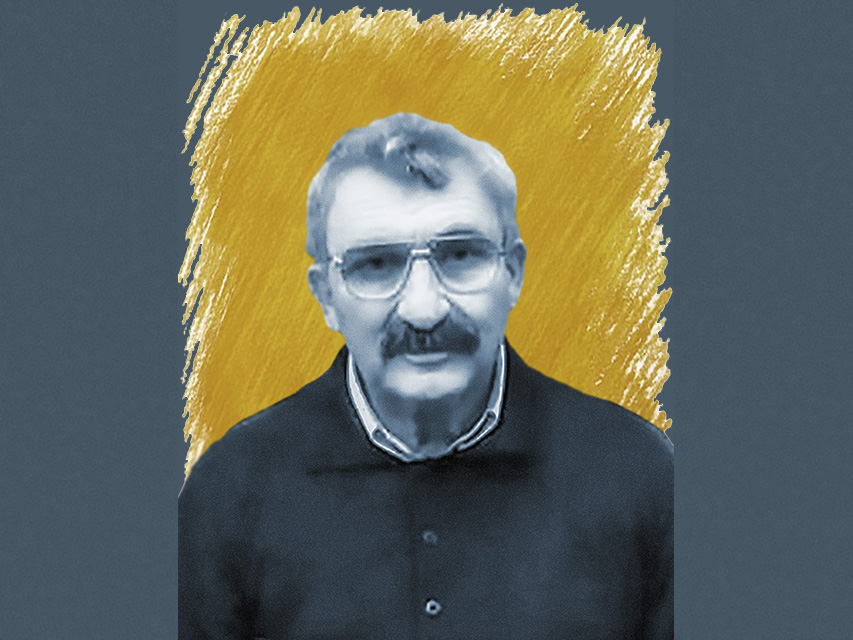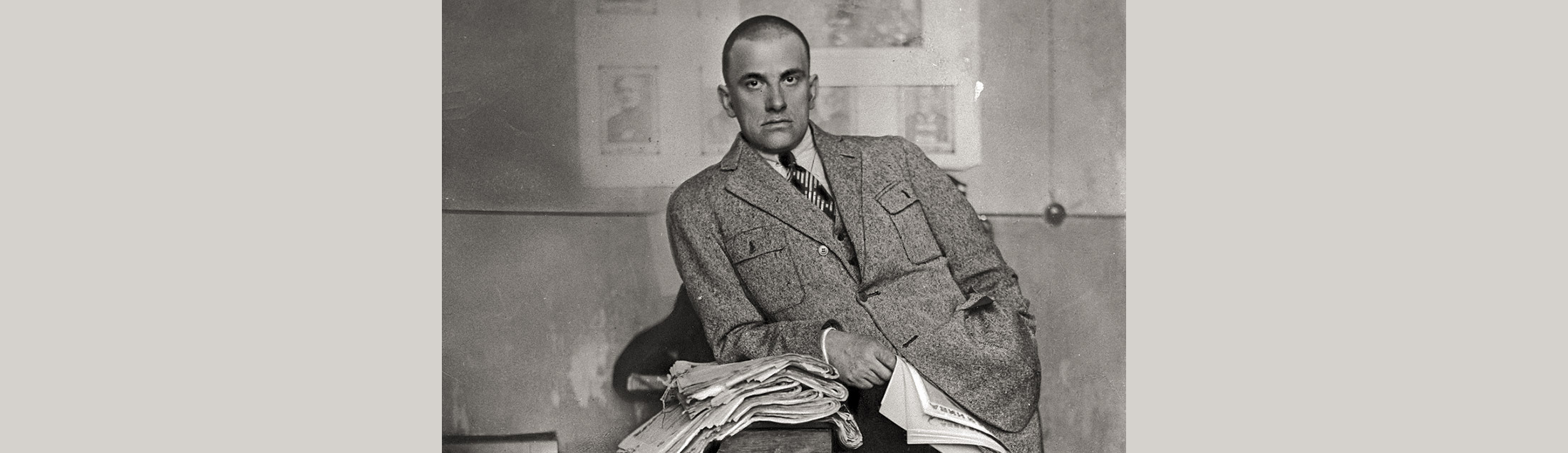Евгений Брейдо
БАХЫТ
Невозможно писать о Бахыте, слишком больно. Невозможно не написать. Есть люди настолько живые, что кажется, несовместимы со смертью. И дело не только в трагедии, просто не каждую смерть можно себе представить. Быхыт – очаровательный пьяница, насмешник, женолюб, сделанный из той божественной глины, из которой лепятся великие поэты и художники, должен был жить вечно. Сказано же собратом, или точнее, сестрой: «Я знаю, ты еще живой, / поскольку говорю с тобой, / А мёртвые не имут речи…» Совершенно наяву, как всегда, звучит его мягкий, обволакивающий голос. Слова произносятся серьёзно, что, естественно, усиливает комический эффект: «Да чего с тобой говорить, Женька, ты известный русофоб». Русофобия в данном случае заключалась в том, что я описывал войну 1812-го года с точки зрения француза. Все это легко и весело. Ирония и лёгкость – очень бахытовские качества. А русофобами мы все перебывали. Но можно было услышать и другое, почти грозное: «Не перебивайте поэта!» Искренне любил чужие стихи, причём не только великих, – и читал взахлёб. Сколько же он их помнил! Ни о ком на моей памяти не отозвался плохо – у него был дар органического беззлобия, способность беззаботно и щедро прощать. Всех любил и все его любили. Обожал жизнь во всех проявлениях, но жил для вечности.
Мой переезд в Великий город начался с бахытовского лофта на Mеrcer. Это была вторая попытка обосноваться в Нью-Йорке, на сей раз после Бостона. Над рабочим столом Бахыта висел портрет Мандельштама, на полках - сборники стихов. И у меня всю жизнь висит над рабочим столом портрет Мандельштама, только на моем он лет на десять моложе, и стихи на полках почти те же, хотя в другом порядке. Я был дома. У Бахыта не было иерархий, ты сразу чувствовал себя на равных, все были Сашки, Лёшки, Ленки, Женьки, хотя цену себе он, безусловно, знал.
Незабываемые бахытовские дни рождения – в единственной, кажется, в городе Чебуречной собирался весь художественный Нью-Йорк, причём точно 2 августа. Мы с Бахытом родились в один день, так что это было особенно приятно – я не большой любитель устраивать собственные ДР.
Дар его кажется естественным продолжением личности, хотя на самом деле, думаю, наоборот – личность строилась вокруг дара. Прямая пушкинская традиция – лёгкость Первого поэта, элегичность Боратынского, чуть философии Тютчева, разрывы и зигзаги Мандельштама – и вот вам Кенжеев, поцелованный богом, пронзительной чистоты лирик, с самого начала непохожий ни на кого из учителей. Из его химической профессии в стихи перешло внимание к конкретным предметам, вещному миру – будем считать это данью акмеизму. Интересно, что из объединения акмеистов вышло три крупных поэта, из «Московского времени» тоже три. Не сравниваю, «живущий несравним», просто числа. Результат для небольшой группы невероятный. В том и в другом случае поэтическая дружба связывала этих людей гораздо больше, чем что-либо еще. Творчески они были совершенно разными.
Кенжеев – модернист, ему несвойственна авангардная демонстрация приёма. Вся техника внутри, снаружи – только упоительные волшебные строчки. Хотя есть и невероятно насыщенная фоника, сложный ритмический рисунок, метафора – то, что называется собственным поэтическим языком. Почему-то принято говорить об элегичности, романсовости его стихов. Но ведь сколько угодно лирической или обычной драмы, например, вот это:
Майору заметно за сорок – он право на льготный проезд
проводит в простых разговорах и мёртвую курицу ест –
а поезд влачится степями непахаными, целясь в зенит,
и ложечка в чайном стакане – пластмассовая – не звенит.
Курить. На обшарпанной станции покупать помидоры и хлеб.
Сойтись, усомниться, расстаться. И странствовать. Как он нелеп,
когда из мятежных провинций привозит, угрюм и упрям,
ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям!
Элегичность для Кенжеева – больше интонация, манера письма, чем жанр. Впрочем, здесь уже начинается филология.
Земная жизнь закончена. Что впереди? Магия слов, стихов, память и слава.
* * *
Когда приходит юности каюк,
мне от фортуны лишнего не надо –
март на исходе. Хочется на юг.
Секундомер стрекочет, как цикада.
Мы так взрослели поздно, и засим
до тридцати болтали, после – ныли,
а в зрелости – не просим, не грустим,
ворочаясь в прижизненной могиле.
Но март проходит. Молоток и дрель
из шкафа достаёт домовладелец,
терзает Пан дырявую свирель,
дышу и я, вздыхая и надеясь.
То Тютчева читаю наизусть.
То вижу, как измазан кровью идол
на площади мощёной – ну и пусть.
Свинья меня не съела, Бог не выдал.
Ещё огарок теплится в руках,
и улица, последняя попытка,
бела, черна и невозвратна, как
дореволюционная открытка…
* * *
Вот человек, он робок, как и я,
он суеверен, крика воронья
боится, и такой же тихий страх
владеет им в присутственных местах,
где похоронный царствует уют,
висит портрет монарха в строгой раме
и клерки светлоглазые снуют,
увёртливыми ходят пескарями
над отмелью (а за окном — кларнет,
зелёный лист, случайный рыжий локон),
и весело в соседний кабинет
плывут метать чернильную молоку.
Там в воздухе рассеян тонкий яд,
там, сжав крестообразную награду
до боли в пальцах, наклонился над
тяжёлой папкой с надписью «К докладу»
старик Каренин. «Если эта связь
преступна, то она достойна кары»,
он думает и «жизнь не удалась»
выводит вместо визы. Тротуары
просохли. Дёрнуть водки? Нет, винца.
Деревья, звери — кто ещё, скажи, мой
доносчик? — что-то просят у творца.
А он молчит в дали непостижимой.
* * *
В чистом поле торчу, как перст, не могу упасть я,
хоть давно поражён на корню нехорошей вестью.
На исходе смелости и злосчастья
зимний ветер пахнет сырою шерстью,
да листвой горелой. Беспрекословный
подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом
наслаждайся. Но даже фиал любовный,
с чем его ни мешай, отдаёт муравьиным спиртом.
Не сердись на меня, всесильная Афродита,
умный плачет, а глупый — шарик из хлеба лепит.
Разорившемуся, увы, не дают кредита,
а влюблённый лепет, нахмурившись, пишут в дeбет.
Помечтать — был бы я, например, Гораций,
вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой!
Был один поэт — как напьётся, так сразу драться
и скандалить, и хвастаться свежей строчкой.
Был он мой учитель, знал зло и благо,
как хотел, вертел просветлённым словом.
Вот бы выпить с кем — только бедолага
скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым.
* * *
В замочной скважине колеблющийся свет,
блаженный муж терзает хлебный мякиш,
и пахнет смертью, горькой и целебной.
Случайный сорванец глядит и, напрягая слух,
пытается понять обрывки разговора
между тринадцатью бродягами. Они
взволнованы, как будто ждут чего-то
неведомого. И, сказать по чести,
немного смысла в их речах несвязных.
«Что скажешь нам, Фома?»
«Учитель, чтo’ есть страх?
Ужель всех поразит секирой роковою?»
«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,
олива, облако, медведица, секвойя».
«Ты снова притчами?» Спиной к огню
сидят ученики, не улыбаясь. «Если
б ты твёрдо обещал, что, кровь твою вкусив,
вслед за тобой мы тоже бы воскресли…»
«Я обещал». Встаёт другой, кряхтя,
и чашу жалкую вздымает. Млечный
сияет путь. Соскучившись, уйдёт дитя
от кипарисовых дверей, от жизни вечной.
Пора — его заждались мать с отцом.
Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько
лет впереди. Совсем не страшно
глядеть в полуразрушенное небо.
Собака лает. И бренчат доспехи
полночных стражников, как медные монеты
в кармане нищего. Как в старые меха
не влить вина игристого, как воду
мечом не разрубить, так близится к концу
время упорное — кипя, меняя облик тленный —
уже во всём подобное терновому венцу
на голове дряхлеющей вселенной.
* * *
«Как прекрасен мир, — майский жук шелестит, — пойми!» —
У каждого — ангел-хранитель. Младенцы смирно лежат в капусте.
Отчего же я так подавлен, ma belle amie? Отчего я так безобразно грустен?
У меня мигрень, у тебя мигрень. На дворе отпахла развесистая сирень,
пожелтевший том Александра Грина у постели. Умыться, вздохнуть, а за-
тем стопарик водки, прикрыв глаза, закусить таблеткою аспирина,
отложить дела, выйти в парк, где листва молодая кленовая — что страницы
Книги Царств. Ты ещё жива? Жив и я, но уже пора суетиться,
собираться, завешивать шёлком пролом в окне.
В этот век, глухой и ветхозаветный,
слишком трудно таиться и пробуждаться, не
предаваясь печали и ненависти, мой светлый.
Где же маяк, переносной мой огонь в тумане?
Длинноволосый бродяга, покачиваясь на ходу,
мыча в честь весны, ухмыляясь, повторяет то «ом мани
падме кум», то, если не ошибаюсь, «dum
spiro — spero». Закашлялся, губы вытер.
Подозвал пугливую белку, скосил осторожный взгляд.
Узнаёшь на нём траченный молью свитер,
который я выбросил года четыре тому назад?
Это он днём куражится, а по ночам «уснуть бы»
повторяет, скорчившись на скамейке, смешон и дик.
Это я раньше завидовал, и, примеряя чужие судьбы,
огорчался до слёз, а теперь привык,
и, на ветру прикуривая, закрывая ладонью пламя
одноразовой зажигалки, вижу, что истинам несть числа.
Вот и всё открытие — за неладами, долгами, делами.
Да и что дела мои, радость, — табак, никотин, смола.
* * *
Уверяешь, что жизнь надоела? Глупость.
Поезжай в Прованс, говорю, скорее.
Съешь в Марселе густой ушицы
из среди-
земноморской рыбы, с шафраном,
с перцем,
разливным вином её запивая
с несравненным привкусом ежевики.
Отобедав, сядь на туристский катер,
что тебя доставит в старинный замок
Иф, взгляни на нору в известняковой
стенке, сквозь которую Монте-Кристо
лазил в гости к таинственному аббату,
горевать, обучаться любви и мести.
Разыщи крепостную башню,
откуда графа
в полотняном мешке зашитом
кидали в волны
(грохотала буря, сверкали молнии),
а потом отправься к руинам римским,
над которыми венценосный Август
до сих пор простирает грозно
руку мраморную, а потом не минуй
городка, где журчит такая
речка чистая, что глазам не веришь,
лоб смочи хрустальною, горной влагой,
вспоминая Петрарку, который тоже
умывался ею на беспощадном солнце,
причитая: «Лаура моя, Лаура…».
* * *
Золотое, сизое, безоглядное заоконное полотно!
По-старинному не выходит, а по-новому не дано:
не отмыть чёрного кобеля, не вылечить глаукому.
Утренние скворцы в предгорьях Памира поют хвалу
птичьему богу осени — стервятнику? или орлу?
или подобному им, короткоклювому и худому?
Телефонная связь хромает, даже тихого «что с тобой?»
не спросить, задыхаясь. Свежевыпавший, голубой
на горах рассиялся снег. Как, милая, дали маху
мы, как натерпелись, сколько бессильных слёз
пролили. По аллее парка, рыча, беспризорный пёс
тащит в жёлтых зубах перепуганную черепаху.
Что же мне снилось вчера? То ли жизнь, то ли смерть моя.
Длинноволосая юная женщина на песчаном дне ручья
спящая, несомненно, живая, в небелёном холщовом
платье. Я человек недобрый, тем более на заре,
не люблю самопальной фантастики в духе пре-
рафаэлитов, мистики не терплю, и ночами «чего ещё вам?»
повторяю нечистым духам, «оставьте мне, — говорю, —
сны хотя бы». К медно-серому азиатскому ноябрю
я добрёл, наконец, в городок приземистый и сиротский,
где запивает лепёшку нищий выцветшим молоком.
Словно гранат на ветке, лакомый мир, к которому ты влеком
только любовью, как улыбнулся бы бедный Бродский,
отводя опустевший взгляд к перекрытому до весны
перевалу. Обидней всего, что — ничьей вины
или злого умысла. Кофейник шумит на плитке.
Шелести под водой, трава, те же самые у тебя права
и слова, что у молчаливого большинства,
те же самые невесомые, невидимые пожитки.
* * *
В блокноте, начатом едва,
роятся юркие слова,
что муравьи голодным комом
у толстой гусеницы. Знать,
ей мотыльком уже не стать,
погибшей деве насекомой.
Хорош ли образ мой, Эраст?
Кусают, кто во что горазд,
друг другу ползают по спинам.
Осилят в несколько минут
и, напрягаясь, волокут
на корм личинкам муравьиным.
Бытует в Африке молва -
кто поедает сердце льва,
наследует его отваге.
Но до сих пор не видел я
ни мотылька из муравья,
ни слов, взлетающих с бумаги.
Искусство - уверяют - щель
в мир восхитительных вещей,
что не постичь рассудком чистым.
Я в этой области эксперт,
пускай зовёт меня Лаэрт
неисправимым пессимистом.
Жар творчества и жар печной -
вот близнецы, мой друг родной.
Воспламеняясь повсеместно,
из жизни мёртвое сырье
творят, чтоб превратить ее
в паек духовный и телесный.
* * *
Дорожащий неведомым, длинною, рыжей
ниткой на рукаве,
слов не вяжет, не помнит, знай бусинки нижет,
озираясь на две
удручённые вечности, горькую с мокрой,
словно злая слеза.
И от солнца, летящего в пыльные окна,
прикрывает глаза.
Современникам, сцепщикам - быть молодыми,
видеть Лондон и Рим.
Незаметно умрёшь, не расслышанный ими,
станешь ветром сырым
вырывать у растяпы на улице вешней
драгоценный билет
в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,
в розовеющий свет.
Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.
Ни меча-кладенца.
Засвистишь по привычке - смешно, бестолково,
и уже до конца
шорох, шелест, обиженный шёпот метели
станут речью твоей,
мелкий горный ручей в середине апреля -
пир воды и камней.
* * *
Когда приходит юности каюк,
мне от фортуны лишнего не надо –
март на исходе. Хочется на юг.
Секундомер стрекочет, как цикада.
Мы так взрослели поздно, и засим
до тридцати болтали, после – ныли,
а в зрелости – не просим, не грустим,
ворочаясь в прижизненной могиле.
Но март проходит. Молоток и дрель
из шкафа достаёт домовладелец,
терзает Пан дырявую свирель,
дышу и я, вздыхая и надеясь.
То Тютчева читаю наизусть.
То вижу, как измазан кровью идол
на площади мощёной – ну и пусть.
Свинья меня не съела, Бог не выдал.
Ещё огарок теплится в руках,
и улица, последняя попытка,
бела, черна и невозвратна, как
дореволюционная открытка…
* * *
Вот человек, он робок, как и я,
он суеверен, крика воронья
боится, и такой же тихий страх
владеет им в присутственных местах,
где похоронный царствует уют,
висит портрет монарха в строгой раме
и клерки светлоглазые снуют,
увёртливыми ходят пескарями
над отмелью (а за окном — кларнет,
зелёный лист, случайный рыжий локон),
и весело в соседний кабинет
плывут метать чернильную молоку.
Там в воздухе рассеян тонкий яд,
там, сжав крестообразную награду
до боли в пальцах, наклонился над
тяжёлой папкой с надписью «К докладу»
старик Каренин. «Если эта связь
преступна, то она достойна кары»,
он думает и «жизнь не удалась»
выводит вместо визы. Тротуары
просохли. Дёрнуть водки? Нет, винца.
Деревья, звери — кто ещё, скажи, мой
доносчик? — что-то просят у творца.
А он молчит в дали непостижимой.
* * *
В чистом поле торчу, как перст, не могу упасть я,
хоть давно поражён на корню нехорошей вестью.
На исходе смелости и злосчастья
зимний ветер пахнет сырою шерстью,
да листвой горелой. Беспрекословный
подступает вечер. Казалось бы, лавром, миртом
наслаждайся. Но даже фиал любовный,
с чем его ни мешай, отдаёт муравьиным спиртом.
Не сердись на меня, всесильная Афродита,
умный плачет, а глупый — шарик из хлеба лепит.
Разорившемуся, увы, не дают кредита,
а влюблённый лепет, нахмурившись, пишут в дeбет.
Помечтать — был бы я, например, Гораций,
вот гулял бы в тоге с пурпурной оторочкой!
Был один поэт — как напьётся, так сразу драться
и скандалить, и хвастаться свежей строчкой.
Был он мой учитель, знал зло и благо,
как хотел, вертел просветлённым словом.
Вот бы выпить с кем — только бедолага
скоро десять лет, как лежит под крестом дубовым.
* * *
В замочной скважине колеблющийся свет,
блаженный муж терзает хлебный мякиш,
и пахнет смертью, горькой и целебной.
Случайный сорванец глядит и, напрягая слух,
пытается понять обрывки разговора
между тринадцатью бродягами. Они
взволнованы, как будто ждут чего-то
неведомого. И, сказать по чести,
немного смысла в их речах несвязных.
«Что скажешь нам, Фома?»
«Учитель, чтo’ есть страх?
Ужель всех поразит секирой роковою?»
«Нет, вера и ответ есть дерево и прах,
олива, облако, медведица, секвойя».
«Ты снова притчами?» Спиной к огню
сидят ученики, не улыбаясь. «Если
б ты твёрдо обещал, что, кровь твою вкусив,
вслед за тобой мы тоже бы воскресли…»
«Я обещал». Встаёт другой, кряхтя,
и чашу жалкую вздымает. Млечный
сияет путь. Соскучившись, уйдёт дитя
от кипарисовых дверей, от жизни вечной.
Пора — его заждались мать с отцом.
Сад Гефсиманский пуст. Руины храма. Столько
лет впереди. Совсем не страшно
глядеть в полуразрушенное небо.
Собака лает. И бренчат доспехи
полночных стражников, как медные монеты
в кармане нищего. Как в старые меха
не влить вина игристого, как воду
мечом не разрубить, так близится к концу
время упорное — кипя, меняя облик тленный —
уже во всём подобное терновому венцу
на голове дряхлеющей вселенной.
* * *
«Как прекрасен мир, — майский жук шелестит, — пойми!» —
У каждого — ангел-хранитель. Младенцы смирно лежат в капусте.
Отчего же я так подавлен, ma belle amie? Отчего я так безобразно грустен?
У меня мигрень, у тебя мигрень. На дворе отпахла развесистая сирень,
пожелтевший том Александра Грина у постели. Умыться, вздохнуть, а за-
тем стопарик водки, прикрыв глаза, закусить таблеткою аспирина,
отложить дела, выйти в парк, где листва молодая кленовая — что страницы
Книги Царств. Ты ещё жива? Жив и я, но уже пора суетиться,
собираться, завешивать шёлком пролом в окне.
В этот век, глухой и ветхозаветный,
слишком трудно таиться и пробуждаться, не
предаваясь печали и ненависти, мой светлый.
Где же маяк, переносной мой огонь в тумане?
Длинноволосый бродяга, покачиваясь на ходу,
мыча в честь весны, ухмыляясь, повторяет то «ом мани
падме кум», то, если не ошибаюсь, «dum
spiro — spero». Закашлялся, губы вытер.
Подозвал пугливую белку, скосил осторожный взгляд.
Узнаёшь на нём траченный молью свитер,
который я выбросил года четыре тому назад?
Это он днём куражится, а по ночам «уснуть бы»
повторяет, скорчившись на скамейке, смешон и дик.
Это я раньше завидовал, и, примеряя чужие судьбы,
огорчался до слёз, а теперь привык,
и, на ветру прикуривая, закрывая ладонью пламя
одноразовой зажигалки, вижу, что истинам несть числа.
Вот и всё открытие — за неладами, долгами, делами.
Да и что дела мои, радость, — табак, никотин, смола.
* * *
Уверяешь, что жизнь надоела? Глупость.
Поезжай в Прованс, говорю, скорее.
Съешь в Марселе густой ушицы
из среди-
земноморской рыбы, с шафраном,
с перцем,
разливным вином её запивая
с несравненным привкусом ежевики.
Отобедав, сядь на туристский катер,
что тебя доставит в старинный замок
Иф, взгляни на нору в известняковой
стенке, сквозь которую Монте-Кристо
лазил в гости к таинственному аббату,
горевать, обучаться любви и мести.
Разыщи крепостную башню,
откуда графа
в полотняном мешке зашитом
кидали в волны
(грохотала буря, сверкали молнии),
а потом отправься к руинам римским,
над которыми венценосный Август
до сих пор простирает грозно
руку мраморную, а потом не минуй
городка, где журчит такая
речка чистая, что глазам не веришь,
лоб смочи хрустальною, горной влагой,
вспоминая Петрарку, который тоже
умывался ею на беспощадном солнце,
причитая: «Лаура моя, Лаура…».
* * *
Золотое, сизое, безоглядное заоконное полотно!
По-старинному не выходит, а по-новому не дано:
не отмыть чёрного кобеля, не вылечить глаукому.
Утренние скворцы в предгорьях Памира поют хвалу
птичьему богу осени — стервятнику? или орлу?
или подобному им, короткоклювому и худому?
Телефонная связь хромает, даже тихого «что с тобой?»
не спросить, задыхаясь. Свежевыпавший, голубой
на горах рассиялся снег. Как, милая, дали маху
мы, как натерпелись, сколько бессильных слёз
пролили. По аллее парка, рыча, беспризорный пёс
тащит в жёлтых зубах перепуганную черепаху.
Что же мне снилось вчера? То ли жизнь, то ли смерть моя.
Длинноволосая юная женщина на песчаном дне ручья
спящая, несомненно, живая, в небелёном холщовом
платье. Я человек недобрый, тем более на заре,
не люблю самопальной фантастики в духе пре-
рафаэлитов, мистики не терплю, и ночами «чего ещё вам?»
повторяю нечистым духам, «оставьте мне, — говорю, —
сны хотя бы». К медно-серому азиатскому ноябрю
я добрёл, наконец, в городок приземистый и сиротский,
где запивает лепёшку нищий выцветшим молоком.
Словно гранат на ветке, лакомый мир, к которому ты влеком
только любовью, как улыбнулся бы бедный Бродский,
отводя опустевший взгляд к перекрытому до весны
перевалу. Обидней всего, что — ничьей вины
или злого умысла. Кофейник шумит на плитке.
Шелести под водой, трава, те же самые у тебя права
и слова, что у молчаливого большинства,
те же самые невесомые, невидимые пожитки.
* * *
В блокноте, начатом едва,
роятся юркие слова,
что муравьи голодным комом
у толстой гусеницы. Знать,
ей мотыльком уже не стать,
погибшей деве насекомой.
Хорош ли образ мой, Эраст?
Кусают, кто во что горазд,
друг другу ползают по спинам.
Осилят в несколько минут
и, напрягаясь, волокут
на корм личинкам муравьиным.
Бытует в Африке молва -
кто поедает сердце льва,
наследует его отваге.
Но до сих пор не видел я
ни мотылька из муравья,
ни слов, взлетающих с бумаги.
Искусство - уверяют - щель
в мир восхитительных вещей,
что не постичь рассудком чистым.
Я в этой области эксперт,
пускай зовёт меня Лаэрт
неисправимым пессимистом.
Жар творчества и жар печной -
вот близнецы, мой друг родной.
Воспламеняясь повсеместно,
из жизни мёртвое сырье
творят, чтоб превратить ее
в паек духовный и телесный.
* * *
Дорожащий неведомым, длинною, рыжей
ниткой на рукаве,
слов не вяжет, не помнит, знай бусинки нижет,
озираясь на две
удручённые вечности, горькую с мокрой,
словно злая слеза.
И от солнца, летящего в пыльные окна,
прикрывает глаза.
Современникам, сцепщикам - быть молодыми,
видеть Лондон и Рим.
Незаметно умрёшь, не расслышанный ими,
станешь ветром сырым
вырывать у растяпы на улице вешней
драгоценный билет
в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,
в розовеющий свет.
Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.
Ни меча-кладенца.
Засвистишь по привычке - смешно, бестолково,
и уже до конца
шорох, шелест, обиженный шёпот метели
станут речью твоей,
мелкий горный ручей в середине апреля -
пир воды и камней.
Алекс Тарн
Умер Бахыт Кенжеев, и это, безусловно, горе для всех, кто хоть что-то понимает… - хотел написать «в поэзии», но понял, что неверно, надо писать «в мироздании». Точно так же, как горем была смерть Алексея Цветкова: его двухлетней давности уход до сих пор аукается на слуху, зияет незаживающей раной.
Ведь поэты - канал связи человечества с Вечностью. Да, остаются стихи, но как отделаться от мысли, что их могло бы быть еще больше - поди знай, какие связи он еще протянул бы из непроницаемых для обычного зрения пространств - к нашим заросшим банальщиной ушам…
Оба - и Цветков и Бахыт - были безнадежно параллельны мне по линиям мировоззрения и политических симпатий, но никогда не давали повода усомниться в своей высокой поэтической - то есть главной - значимости.
Так или иначе, стихи все-таки остались, и с ними можно пересечься в любую минуту, а потому кажется мне, что «Элогия» Брента очень подходит к этому скорбному дню.
* * *
Корабль отплыл. Стоим, кренясь душой
к береговым камням, а он – всё дальше…
И кто-то рядом скажет: «Он ушёл,
пропал в морях забвения и фальши…»
Ушёл совсем – или ушёл от нас?
Невидим нами, он остался прежним,
он лишь покинул поле наших глаз,
но тот же флаг на нем и люди те же.
Быть может, братья, в этот самый миг,
когда мы с ним прощаемся, тоскуя,
в другом порту ему приветный крик,
и пушки бьют, и граждане ликуют.
Ведь смерти нет – есть горизонт морской –
иллюзия, обман земного взгляда…
Корабль ушел. Возвысься над тоской
и вновь узришь плывущую громаду.