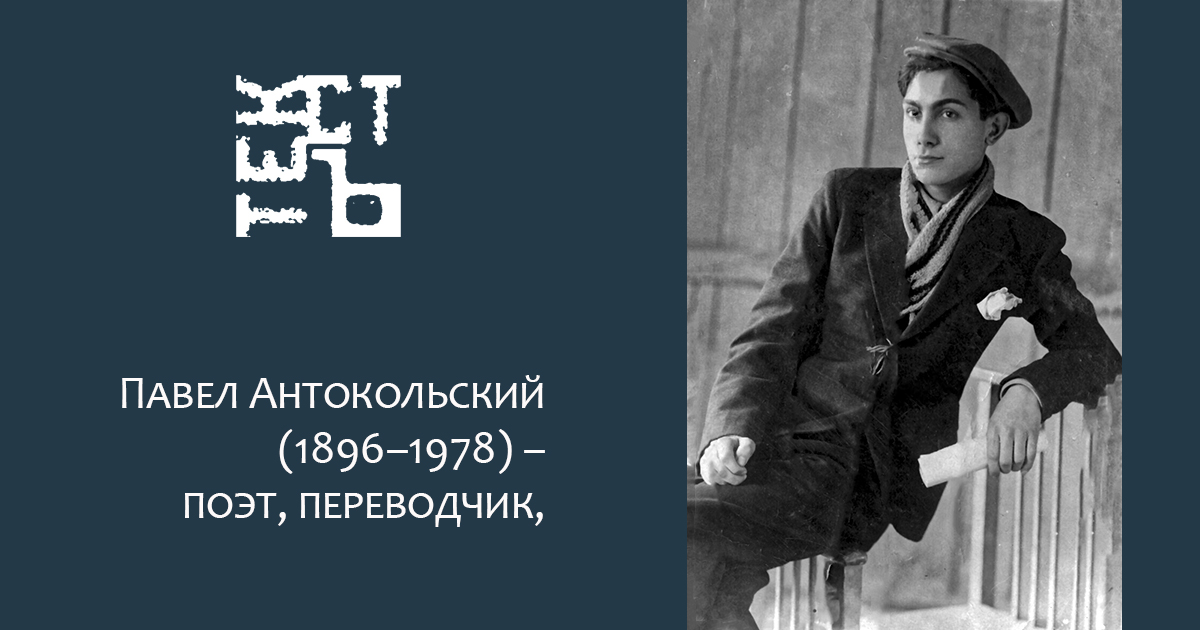MEMORY POSTUM
Лето. Лондон. Еще не перевалило за полдень.
Коронёр изучает обстоятельства смерти О’Коннор.
Почему умерла? Неизвестно. В стекле оконном
отражается улица. Южный квартал. И долго
Он листает бумаги, скролит в своем телефоне twitter.
Почему умерла? Почему? Как нащупать причину?
Полдень. Суетно. Люди толкают в спину.
Он рассержен и пуст. Он не любит вопросов открытых.
Что за штучка такая была, эта странная Коннор?
С кем водила дела? И зачем сочиняла и пела?
Может, жить было нужно иначе? И, может, за дело
с ней такое случилось? О, господи! Как бестолково!
Он рисует в служебном блокноте редуты каракулей.
Что он, в сущности, знает об этой свихнувшейся Коннор?
В голове его пусто, туманно и манно, и сонно.
Хоть какой-нибудь знак, хоть намек. Но в итоге – ни знака.
Коронёр морщит лоб. Что он может по факту ответить?
В захламленной квартире немытое, старое тело
лысой женщины – изуродовала себя до предела,
не смогла дотянуть – как досадно! – до окончания лета
и до первой прохлады. Коронёр обливается потом,
переносит в сухой протокол все, что видит, и чинно
пишет: стол, диван, фотография младшего сына
с мелкой надписью прямо на рамке «memory postum»,
на обоях – гитара, газетные вырезки «Grammy».
Что еще? Книги, диски, конверты, стеклянные четки.
Он покоя лишен. В голове его образ нечеткий.
Почему умерла эта чертова Коннор? Бездельник,
его зам, вот уже третий час залипает с планшетом,
день минувшего вторника распределив по минутам.
Кто поверить бы мог в то, что дива – и станет вдруг трупом,
коченеюшим, синим, бессильным, бесстыдно раздетым.
Коронёр прикрывает глаза. Он устал. Он растерян.
Почему ему нужно копаться в белье этом звездном?
Все ж понятно про них. Непонятно лишь «memory postum»
мелким шрифтом на рамке. Кому эта ложь? Он не верит
в тех, в ком есть божий дар, поцелованность, царство на троне
в мире дьявольских игр в чарты, рейтинги, фанов, релизы.
Что за смысл разбираться во всем этом? Нет больше смысла.
Что тебе не хватало? Что тебя доконало, О’Коннор?
Бьет Биг-Бен. Вечереет. Он опять на последний автобус
опоздает. И будет опять ночевать в кабинете,
но не спать, потому что уже никому не ответить,
что же значило это странное «memory postum».
* * *
Я смотрю на тебя, растрепанного, в распятом пальто,
говорю, что у нас ничего уже не случится, как прежде:
эта улица, эта весна из окна, это тепло,
и распахнутые глаза, и шапки, и благие надежды.
Утро. Слышно, как почки лопаются в саду,
жизнь деревьев пульсирует, а насекомых – трепещет.
Только мы с тобой остались одни, как в аду,
как никто еще и никогда. Забирай свои вещи
и иди. Скоро лето. В его сферах немало тепла –
не пропадешь и найдешь себе бездну новых объятий.
Я не смела, не благоговела, не превозмогла.
Я не тело. Ты ошибся. Ты спутал с другими. И, значит,
это все теперь трудно, особенно трудно понять,
что земля оживает и наливается новым соком.
Он ведь есть у природы. А нам, где же нам его взять –
утолить наш безудержный голод во ржи высокой,
если все эти соки незримо текут мимо нас,
если все наши железы истрескались и иссохли?
Бог ли вел нас друг к другу, бог ли нас пас
в этих кущах ржаных, в этих зарослях? Разве мог ли
ты представить себе, что в итоге разрушится все –
наши общие дни, где одни Вавилонскую башню
мы с тобой возвели? Мы смогли. Нас с тобою несет
до сих пор. Только мне уже больше не страшно
ухнуть вниз с той пьянящей, звенящей капелью весны,
превратиться, упав на просохший асфальт, в хруст осколков.
Все без толку! Ничто не спасет. Только мы
все стоим и стоим с тобой друг против друга. А сколько
было б времени, с которого мы так беспечно сошли,
как с подножки трамвая, случайным прохожим на зависть,
как, сорвавшись, летим с края пропасти, крыши, земли,
друг за друга зачем-то еще безнадежно цепляясь.
ФЕВРАЛЬ
Нескончаемый длится февраль. Не живется. Не плачется.
И не можется. Утром вскочить бы и в ванной петь арии.
В узкой форточке дышит весна, нелюбимая падчерица
злой зимы – все на ней обветшало, устало, состарилось.
Я стою в пограничье того, что стряслось и не сбудется.
Мне не хочется думать, что это лишь миг мироздания.
А за дверью стучит уже, мается слякотью улица,
повторяя урок на сложение и вычитание,
допуская все то, что отпущено будет с погрешностью
на ошибки зимы, на потери кармана дырявого.
Я стою в пограничье, я знаю, весна не открестится,
не отмолит уже никогда то, что стало потравою,
то, что стало сосудом, без вкуса и надобы выпитым,
или кубком, разлитым в пылу отупляющей ярости.
Я стою в пограничье, я силюсь остаться и тут, и там.
Но не двинуть рукой и не выплакать этакой малости,
не растратить чернил, потому что чернила заветные,
как пустой календарь, не отнимут у времени смертное.
Я стою в пограничье, я знаю уже, что ответа нет
на проклятый вопрос, что в итоге окажется жертвою.
* * *
На фото – изумрудная трава,
(хотя откуда в монохроме зелень?),
небрежный росчерк «ты была права»
и двое на летящей карусели,
обнявшие друг друга. Я стою,
трехлетняя, прижав к груди мартышку,
у черно-белой жизни на краю,
засвеченная чьей-то фотовспышкой.
Меня как будто нет еще. И те,
которым невдомек, что дальше будет,
на дикой карусельной высоте
парят себе беспечно. Эти люди –
из тех, что мною выбраны – одни
еще не знают, как банально время,
в котором им отпущенные дни
иссякнут скоро, и без сожаленья
летят в него, летят. А я стою
и жду их возвращения обратно,
у черно-белой бездны на краю
зависнув. Вспоминая многократно
тот день, в котором первая трава
еще не смята первомайским людом,
я понимаю, как была права,
пророча им. И все-таки под спудом
уберегая черно-белый миг,
я вижу знаки их судьбы повсюду.
И потому, невольный их должник,
я никогда уже права не буду.
ЭПИТАФИЯ
Мне приснилось, что ты не умер,
а уехал в провинцию, к морю, и в его мерном шуме
забываешься, ходишь там босиком, спишь до обеда,
читаешь запоем, влюбляешься в Эрато и Феба,
сочиняешь послания к Петрарке и Данте,
перелистываешь сгоревшие давно фолианты,
ничего не губит тебя, не истребляет,
можешь не стричь свои волосы и колобродить ночами,
слушать пластинки, импровизировать на пианино,
пить, что тебе вздумается – белое, красное, синее,
можешь не биться над истинами, в которых
ты был во всем виноватым, в звериные норы
больше не прятаться.
Но нужно ли думать теперь об этом?
Все это кажется оттуда таким натужным, нелепым,
и хочется бить себя по рукам, резать бритвой
за то, что так много было растрачено и разбито,
за то, что собой так беспечно торгуя,
ты все равно оставался на шаг от овации, от поцелуя.
Твои же возлюбленные и кредиторы
теперь пьют вместе – те бестии, которых
ты всегда провожал на вокзал,
потому что ты знал: всем им слишком мало
оставаться с тобой. Ведь не было никакого смысла
ожидая, считать с тобой числа
до признания, цветов, шумной славы.
Все уехали. Уехали наконец с того ночного вокзала.
И никто из них не вернулся, и не написал тебе эпитафии.
Впрочем, что они знают о твоей биографии
и о том, что в итоге ты даже не умер,
а уехал в провинцию, к морю, и в его мерном шуме
ничего не губит тебя и больш не истребляет?
Там тебе хорошо. Я-то знаю, знаю.
Только не могу понять,
почему из этого заграничья
ничего не приносит мне
твоя почта птичья,
почему в потоках дождя,
шуме ветра
я никак не могу
расслышать ответа
на мои звонки,
телеграммы,
письма,
почему
во всем этом
ты больше
не видишь
смысла.
* * *
Мы стоим с тобой друг против друга,
как руины. Как Гитлер и Браун.
И внутри обреченного круга
мир наш хрупкий разъят и раздавлен.
А воронка безудержной бездны
нас несет еще в злой круговерти.
Но кому же теперь интересно,
что мы выберем способом смерти.
И кому теперь жаль нас, страдальцев,
кто собьет под ногами подмостки.
Полдень. Бункер. Холодные пальцы.
Погибать после гибели – просто.
Все, что нам напоследок осталось –
побежденный, разрушенный город.
Для владевших вселенной – так мало,
но жалеть об утрате – не повод
утянуть за собою полмира.
Не целуй на прощанье, не надо.
На губах моих – легкая мирра
голубого синильного яда.
* * *
Но как же мне спасти тебя от вечности –
твой голос в телефонной трубке и
неискалеченный, неискалеченный
грядущим смех любимый твой? А дым
костров осенних бродит между окнами,
и из всего, что мне осталось, ты –
такая близкая, такая теплая –
стоишь теперь у края пустоты.
Сентябрьский свет тебя еще расцвечивает,
и кажется, что, дотянись рукой,
я ухвачу тебя, я отберу у вечности,
и мы обнимемся, и мы пойдем с тобой
туда, где нами прожито так мало и
так мало пролито живой воды,
где через желтый двор больничный за руку
меня ведешь, спасая от беды,
иль по перрону с тонкой прядью, выбитой
осенним ветром, ты спешишь, а я
машу рукой в окне вагонном, и с тобой
прощаюсь навсегда полушутя,
а, может, и в другой сентябрь, где в темени
отец, еще живой, всю ночь без сна,
бежит к тебе в день моего рождения,
а ты от счастья плачешь у окна.
ОДНОМУ ПОЭТУ
Нужно сорок лет ходить, чтобы забыть,
нужно бежать, укрываться от памяти, как от врага,
нужно выдумывать поводы и границы,
чтобы не соскользнуть в прошлое, чтобы им не упиться,
чтобы не впасть в мучительное похмелье
от того, что уже не случится,
не вернется,
потому что никто из ушедших еще не вернулся,
я не верю в их рай,
я не верю, что ты с ними заодно,
заскочил в тот заветный трамвай
нет, не надо, не привирай, что так просто
купил себе синий билетик
и умчался неизвестно куда
(за дождем? или ветром?)
и теперь – где ты? где ты? –
не звонишь и не пишешь, а зря,
потому что, пока будет длиться это сорокалетье,
ты не узнаешь, что у нас происходит здесь,
а у нас здесь давно уже кончилось лето,
не узнаешь, что сказанное тобою при жизни
шепотом, трепетно, задыхаясь в ночи
растащили теперь на стихи, циклы, опусы,
говорят теперь твоим голосом,
говорят, говорят вместо тебя,
но я слышу, как в этом осином гомоне
меньше и меньше того, что действительно было,
потому что несокрушимое загородило
то, чем мы были с тобой, чем мы жили,
и за нас теперь декламируют и поют,
я зову тебя, и они тоже зовут
мертвого из твоей идиллии,
из мира теней и Вергилия,
чтобы воскресить, чтобы воспеть из ропота,
уточнить, что же значили все твои шепоты,
посвящения, мщения, плач.
А ты знаешь, последний твой врач,
констатировав, сообщил как-то бесцветно,
что тебя больше нет,
сорок лет нужно ждать теперь, все сорок лет,
чтобы освободиться от памяти о тебе,
но они не дают, они – везде,
декламируют тебя и поют,
пересказывают истории твоих побед,
они зовут тебя, призывают, но – нет,
ты по-прежнему не звонишь и не пишешь, а зря,
потому что еще чуть-чуть, и тебя превратят в короля,
коронуют на мертвого – что может лучше быть для поэта,
а ты помнишь, однажды летом (кажется, в самом его конце)
мы сидели и слушали старую пластинку (ты, кстати, ее так и не вернул),
никому до нас не было дела,
за окном парило, звенело, пело,
протекала большая река,
день кончался, а с ним кончалось и лето,
впрочем, вряд ли ты помнишь, зачем тебе теперь это,
и поэтому не слушай меня и не верь,
просто сорок лет – это слишком мало,
чтобы преодолеть, что тебя не стало,
и не слышать посланий твоих запоздалых
из пустоты, из тщеты, из ниоткуда,
где лебеда, кориандры и пылевая вьюга
слов, застрявших в посмертной книге,
так кричащей мне о тебе и о прошлом,
сквозь которое между строк, че-рез-по-лос-но
проступает кровь, как через бинты павшего в битве,
неживого, ставшего всем молитвой,
памятником, вином на тризне,
но скажи, боже мой, скажи мне,
зачем тебе эта манна, эти хлеба вместо жизни?