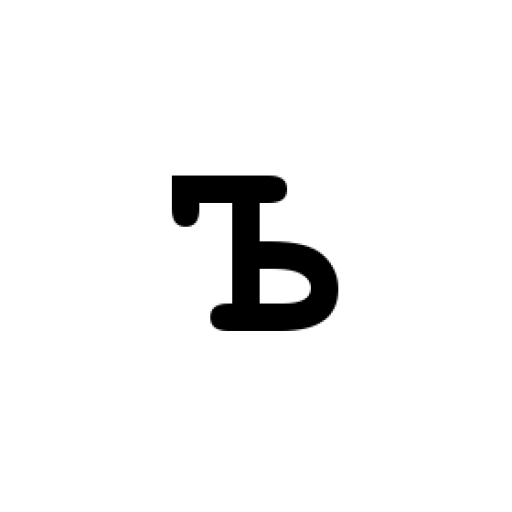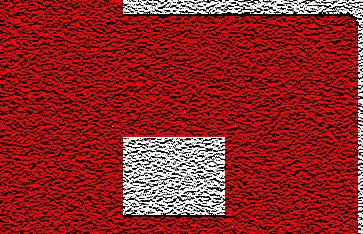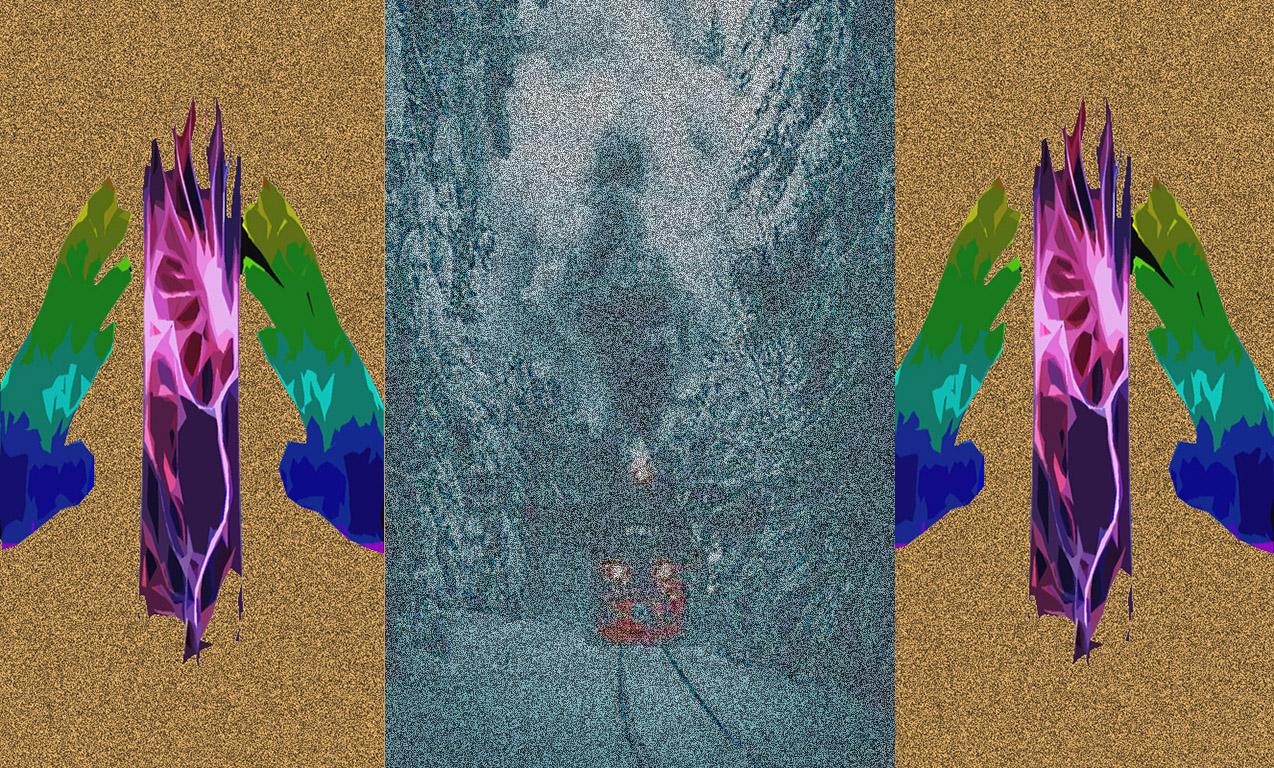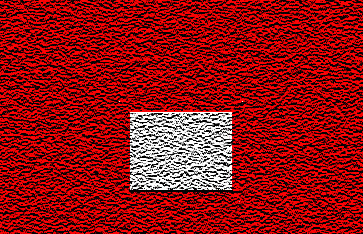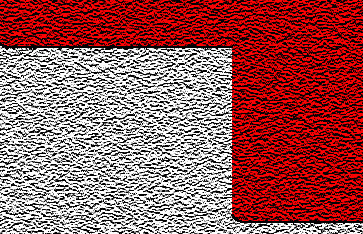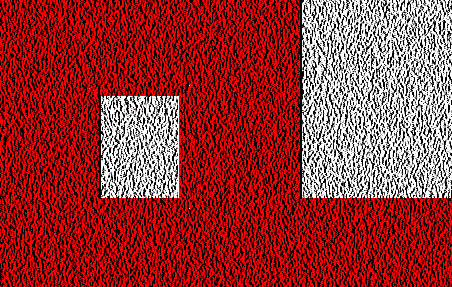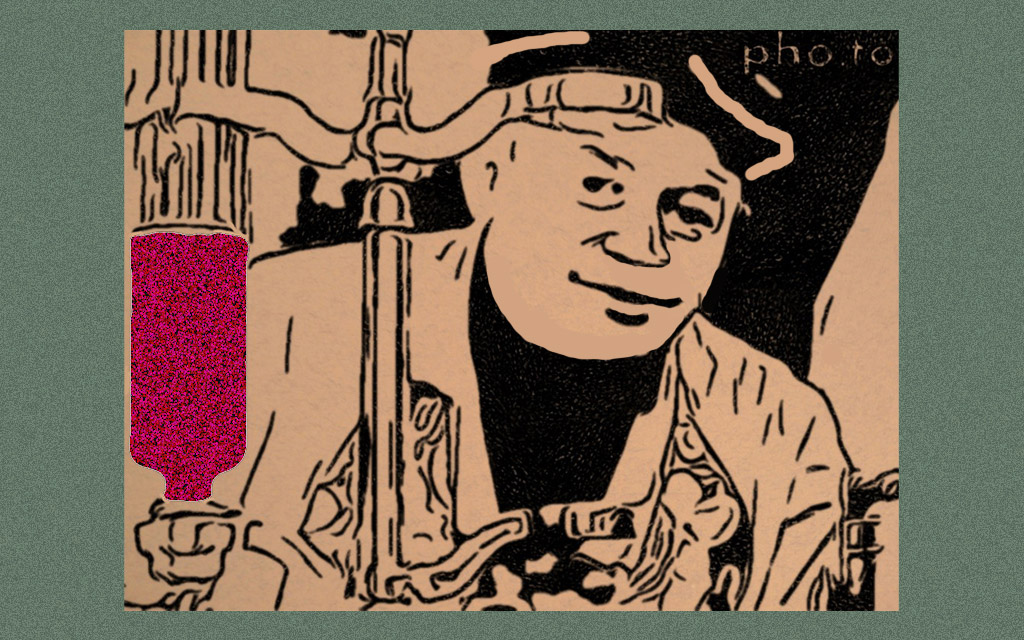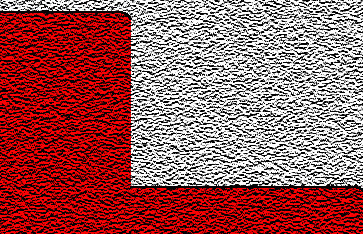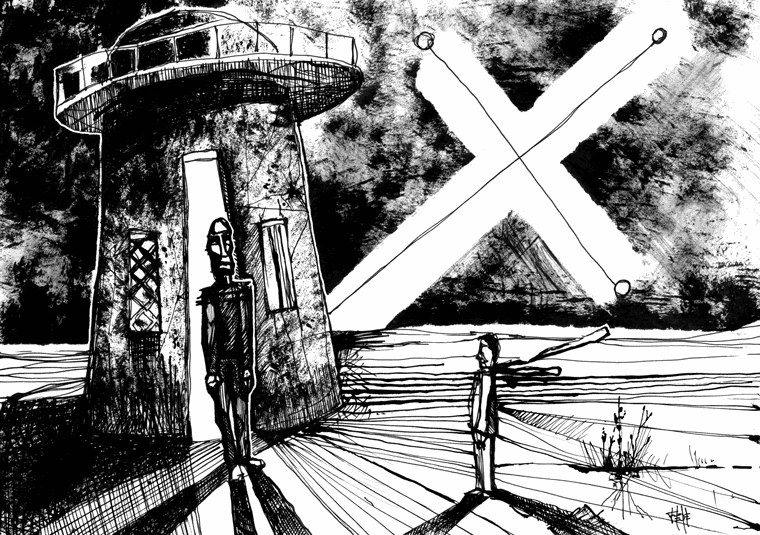В литературном окружении А. П. Чехова фигура его младшего современника, известнейшего в свою пору поэта Константина Бальмонта, не привлекала до сих пор должного внимания. Причин тому несколько. Чаще всего и больше всего Чехова рассматривали в ряду писателей-прозаиков. Чехов-драматург изучен преимущественно в его связях с русским театром, с режиссерами, драматическими писателями, антрепренерами, художниками, артистами, и этот театральный мир, особенно в зрелые годы, действительно составлял неотъемлемую часть ближайшего окружения Чехова и его главных художественных интересов.
Взгляды Чехова на русскую поэзию, а также личные и творческие отношения с поэтами-современниками остаются наименее выясненной частью чеховской литературной биографии. Исключение, пожалуй, составляет только Бунин.
Для Чехова поэзия никогда не была чужой или чуждой стихией, хотя сам он, в отличие от Бунина, не писал стихов. Напротив; поэзия постоянно присутствовала в его прозе. Лирические истоки прозы и драматургии Чехова явно указывают на его художническую причастность к опыту русской поэзии XIX. века, поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Майкова, Фета, которую он хорошо знал и любил. Пристальное внимание Чехова привлекали не только поэты-классики минувших времен, но и те веяния в русской поэзии, которые совершались в его собственное, не слишком благоприятное для поэзии время, когда после смерти Некрасова русская лирика измельчала и оскудела.
Из поэтов-современников Чехов выделял в молодые годы Надсона, а в более зрелые – Бальмонта, и этот выбор, достаточно неожиданный, требует подробных разъяснений.
Когда в январе 1887 года стало известно о смерти больного, затравленного буренинскими нападками Надсона, Чехов откликнулся на это известие в письме к Н. А. Лейкину: «Отчего петербургская литературная братия не служила панихиды по Надсоне? Надсон – поэт гораздо больший, чем все современные поэты, взятые вместе и посыпанные богами Лиодора Иваныча (поэта-сатирика Л. И. Пальмина. – А. Н.). Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона» 1.
Если принять во внимание, что это было сказано при жизни Фета, Полонского, Майкова, Случевского, Апухтина, Владимира Соловьева, то станет ясно, что, определяя размеры таланта Надсона, Чехов не стеснялся преувеличений и даже настаивал на них. В ответ Лейкину, заметившему, что Надсона «раздули», Чехов со всей определенностью повторил свою мысль: «Да, Надсона, пожалуй, раздули, но так и следовало: во-первых, он, не в обиду будь сказано Лиодору Ивановичу, был лучшим современным поэтом, и, во-вторых, он был оклеветан. Протестовать же клевете можно было только преувеличенными похвалами» (XIII, 278).
Надсон для Чехова был поэтом его собственного поколения, истинным бардом людей 80-х годов, к числу которых Чехов не без оснований причислял и самого себя. Он отчетливо сознавал недостатки Надсона как поэта, но воспринимал его слишком лично, чувствовал в его стихах явственный отзвук собственных настроений и готов был многое простить даровитому поэту, желая оградить его от клеветы и несправедливых нападок.
Однако уже в 1892 году, в знаменитом письме к А. С. Суворину по поводу «Палаты N 6», Чехов дал суровую оценку и самому себе, и Короленко, и Надсону, и всей эпохе общественного безвременья 80-х годов, от тяжелого наследия которой он жаждал духовно освободиться.
«Будем говорить об общих причинах, коли Вам не скучно, – отвечал Чехов своему корреспонденту, – и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30 – 45 лет дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить… Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – ни тпрру ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником» (XV, 445 – 446).
Это мужественное признание, много раз процитированное, менее всего можно судить за пристрастие или несправедливость конкретных оценок, в нем высказанных. Чехов не отделял себя от своих сверстников, а высказывал общую боль и горечь, которую так или иначе ощущали все, – он сознавал неполноту идеалов своего поколения, недостаточную ясность искомой цели, которая только и дает настоящую силу и вечный смысл творчеству художника. Страстное стремление выйти из идейного кризиса, захватившего широкие сферы искусства, литературы, критики и публицистики, стремление найти вместо опошленных идеалов новые ценности, обрести чувство внутренней цели составляли сущность чеховского творчества в переломное время, когда на смену ночи «восьмидесятничества» медленно светала новая, еще не вполне ведомая пора.
Исследователи драматургии Чехова давно обратили внимание на близость письма к Суворину 1892 года и одного из монологов писателя Тригорина в «Чайке». Заветнейшие свои мысли Чехов отдал герою, с которым далеко не во всем был солидарен и которого судил с той же строгостью, с какой относился к самому себе.
Этот же принцип «тайного цитирования» был использован Чеховым в характеристике другого героя «Чайки»- начинающего драматурга и писателя Треплева, в котором публика разом признала точный психологический абрис только что народившегося русского декадентства.
Фигура Треплева в «Чайке» вызывает целый рой литературных ассоциаций, среди которых совершенно особое место занимает Бальмонт и его стихи. Сам Бальмонт в статье «Имени Чехова», написанной через четверть века после смерти автора «Чайки», указал на одно из своих ранних стихотворений, в котором главный символ чеховской пьесы получил первые, пусть самые зыбкие, литературные очертания:
Чайка, серая чайка с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской.
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы
Так полны безграничной тоской?
Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.
Закурчавилась пена седая на гребне волны.
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.
Стихотворение Бальмонта «Чайка» было напечатано в «Русских ведомостях» 13 января 1894 года и повторено в его книге «Под северным небом», изданной месяцем позже. Знал ли Чехов о существовании этой книги и этого стихотворения? Бесспорно знал. В личной библиотеке Чехова был сборник «Под северным небом», и в письме к Бальмонту, написанном много позже (1 января 1902 года), Чехов в перечне бальмонтовских книг указал этот сборник на первом месте (XIX, 210). Но если даже Чехов не успел прочитать бальмонтовское стихотворение до того, как была написана его пьеса, еще более разительна перекличка некоторых общих музыкальных мотивов, развитых Чеховым в «Чайке», законченной полтора года спустя2.
Бальмонтовская «Чайка», как и другие стихи первой, изданной в столице, книги Бальмонта, составляла неотъемлемую часть гой литературной атмосферы и тех современных настроений, которые Чехов с поразительной чуткостью и быстротой отклика передал в своей «еретически-гениальной», по словам Горького, пьесе.
Имя Бальмонта и его стихи Чехов, безусловно, встречал и раньше на страницах журнала «Северный вестник», где изредка появлялись также и чеховские рассказы. После 1891 года этот журнал стал основным прибежищем ранних символистов – Мережковского, Гиппиус, Минского, Сологуба; здесь же была напечатана «Фантазия» молодого Бальмонта («Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья…»). По беллетристике «Северного вестника», его прозе, стихам и пьесам Чехов мог составить отчетливое представление о характере «нового искусства», о предпринимавшихся там поисках «новых форм» и «новой красоты». Московские сборники «Русские символисты», выпущенные В. Брюсовым и А. Миропольским в 1894 – 1895 годах, дали Чехову новейшие образцы того же искусства.
Достойно внимания и то обстоятельство, что личное знакомство Чехова с Бальмонтом состоялось в те самые дни, когда пьеса «Чайка», еще не завершенная автором во всех деталях, впервые читалась им в Москве. В начале декабря 1895 года Чехов прочитал пьесу в кругу друзей и знакомых в доме московской актрисы А. Б. Яворской; на чтении присутствовали Ф. А. Корш, Т. Л. Щепкина-Куперник и др. На следующий день Чехов ездил узнать мнение о «Чайке» к В. И. Немировичу-Данченко.
Согласно «Летописи жизни и творчества А. П. Чехова», это первое знакомство театральной Москвы с содержанием чеховской пьесы состоялось между 4 и 6 декабря 1895 года. А 11 декабря молодые Бунин и Бальмонт пришли знакомиться к Чехову в гостиницу, не застали его и оставили о своем визите записку: «Ив. Ал. Бунин и Конст. Дм. Бальмонт очень хотели видеть вас. Если ваше желание совпадает с нашим, не будете ли вы добры написать (Тверская, «Лувр», 25, К. Д. Бальмонту), когда можно вас видеть» 3.
Бунин потом рассказывал Чехову, как они вместе с одним поэтом, засидевшись в Большом Московском ресторане, кинулись в гостиницу знакомиться чуть не в три часа ночи. «Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали – видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства».
– Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?
– Простите, дорогой, не удержались.
– А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо – закатиться куда-нибудь ночью, внезапно» 4.
Когда Чехов написал «Чайку», ему было тридцать пять лет; он был уже знаменитым, известным всей читающей России писателем. Судя по содержанию записки к Чехову, главным инициатором внезапного знакомства с ним был Бальмонт, уже тогда имевший (в отличие от Бунина) определенную известность в литературном мире и полагавший, что имена столь блестящих поэтов должны нечто значить для Чехова. В 1895 году такое убеждение было достаточно самонадеянным, однако Чехов, со свойственной ему проницательностью и умением «угадывать» людей, проявил интерес к обоим молодым поэтам и не ошибся. Затем до конца жизни его связывали с ними очень разные по характеру, но отнюдь не формальные, человеческие и творческие отношения.
При завершении «Чайки» Чехов оказался в эпицентре столичных литературных споров, он явственно ощущал новейшие веяния, которыми тогда жила Москва, – шум в публике по поводу первых сборников «Русские символисты», язвительные рецензии и остроумные пародии поэта Владимира Соловьева в связи с выходом этих сборников, насмешки критики над «Chefs d’OEuvre» Валерия Брюсова, недоумение и первые похвалы, которые вызвала новая книга Бальмонта «В безбрежности».
Фигура Треплева вся соткана из этих новейших впечатлений; его психология, эстетика, творческая программа, его манера говорить и держаться, наконец, его биография и судьба синтезируют многое из того, что Чехов знал и думал о людях, пополнявших число молодых приверженцев «нового искусства». Как литературный образ Треплев, несомненно, один из самых верных художественных типов русского «модерниста» своего времени. За общими очертаниями этого персонажа исследователи чеховской пьесы не раз стремились разгадать реальные имена. В качестве возможных прототипов или носителей сходных эстетических взглядов назывались художник Левитан, отчасти сам Чехов, отчасти поэт и философ Владимир Соловьев, отчасти второстепенный поэт А. Миропольский (А. А. Ланг), заявивший о себе вместе с Брюсовым характерными творениями в сборниках «Русские символисты». И действительно, те или иные подробности, фразы, скрытые цитаты, конкретные черты и черточки ведут от Треплева ко многим его реальным современникам5.
Но Чехов в Треплеве не портретирует никого из реальных лиц. И ни одно конкретное лицо нельзя с полным основанием назвать прототипом героя его пьесы. С этой оговоркой можно указать также на любопытные соприкосновения Треплева с Бальмонтом. Три факта из биографии Бальмонта повторяются в личности и судьбе Треплева: Чехов назвал своего героя так же, как звали Бальмонта – Константин; Треплева, как и Бальмонта в свое время, изгнали из университета (явным образом за «неблагонадежность»); как и Бальмонт, Треплев в отчаянии решается на самоубийство, с той лишь разницей, что этот трагический шаг героя пьесы заканчивается не увечьем, как случилось с Бальмонтом, а смертью. Но самым существенным, пожалуй, является не биографический, а творческий аспект. В отличие от Тригорина (и добавим – от Чехова!) Треплев формулирует свое эстетическое кредо в том духе, что жизнь надо изображать «не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах» (XI, 149).
Бальмонт в пору выхода его первых сборников стихотворений «Под северным небом» и «В безбрежности» мог бы подписаться под этой формулой Треплева в «Чайке» без каких-либо существенных оговорок. Он, собственно, еще до Треплева высказал ту же общую мысль в стихотворении «Ветер»:
Я жить не могу настоящим,
Я люблю беспокойные сны –
Под солнечным блеском палящим
И под влажным мерцаньем Луны.
Я жить не хочу настоящим,
Я внимаю намекам струны,
Цветам и деревьям шумящим
И легендам приморской волны.
Желаньем томясь несказанным,
Я в неясном грядущем живу,
Вздыхаю в рассвете туманном
И с вечернею тучкой плыву.
И часто в восторге нежданном
Поцелуем тревожу листву.
Я в бегстве живу неустанном,
В ненасытной тревоге живу.
Принципиальный разрыв с «настоящим» и бегство от жизни «как она есть», мечты о «неясном грядущем» и чувство «ненасытной тревоги» – доминирующие черты мировосприятия Треплева, которые ведут его к трагическому финалу и катастрофе. Чехов не утрировал черты современной психологии и современных настроений этого рода, а стремился к точному художественному диагнозу; он, как врач-аналитик, относился с гуманным сочувствием к своим героям-пациентам, не обманывая при этом ни себя, ни других относительно действительной болезни их неуравновешенного духа.
Теперь можно лучше понять, насколько основательным был интерес Чехова к Бальмонту как творческой личности, если подобный феномен литературной эпохи конца века был введен автором «Чайки» в число главных действующих лиц его пьесы. В последующие годы этот интерес еще более углубился, ибо выдающийся русский поэт Константин Бальмонт был настолько же крупнее и оригинальнее Константина Треплева, насколько сам Чехов стоял выше Тригорина по иерархии художественных типов и прототипов, обрисованных в «Чайке».
В 1902 году Чехов подтвердил в письме к Бальмонту: «Вы знаете, я люблю Ваш талант и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения. Это, быть может, оттого, что я консерватор» (XIX, 281). А в начале 1903 года, желая выяснить новый московский адрес Бальмонта, Чехов заметил в письме к О. Л. Книппер: «Ведь, пожалуй, ни один человек не относится к этой каналье так хорошо, как я; мне симпатичен его талант» (XX, 30).
При всех расхождениях с Бальмонтом в творческом плане (заметим, что Тригорин в «Чайке» относится к Треплеву точно так же, как «консерватор» к «новатору» или, точнее, как «архаист» к «модернисту»), при отчетливом понимании личных недостатков Бальмонта, игравшего попеременно роли и демонического «сверхчеловека», и Дон Жуана, и русского Бодлера, искренне убежденного в своей гениальности, Чехову нравились экзотические бальмонтовские стихи, был симпатичен его талант, столь не похожий на все, что сам Чехов как художник утверждал в современной литературе. Это отношение к Бальмонту выработалось за несколько лет личного знакомства и общения, сначала достаточно случайного, эпизодического, а затем более тесного.
Весной 1897 года Бальмонт был приглашен в Оксфорд для чтения лекций в «Тэйлоровском институте» по истории русской поэзии. Это приглашение было осуществлено через князя В. Н. Аргутинского-Долгорукова, который пробовал заниматься литературой и жил в Оксфорде для совершенствования в английском языке. В. Н. Аргутинский-Долгоруков был знаком с Чеховым, и именно через него Чехов в апреле 1897 года послал из имения в Мелихове в Оксфорд свой привет: «Поклонитесь Бальмонту и его жене» (XVII, 74).
Есть основания утверждать, что после знакомства и первых встреч с Бальмонтом в Москве в 1895 – 1896 годах Чехов ближе узнал поэта за границей, во время пребывания во Франции в 1897- 1898 годах.
Встречи эти были продолжены затем в России. В сентябре 1898 года Чехов, не дождавшись премьеры «Чайки» в Московском Художественном театре, уехал в Ялту. Там же вскоре появился и Бальмонт с женой Екатериной Алексеевной (урожденной Андреевой), которую Чехов также знал по Москве. Их общим московским другом был знаменитый адвокат и литератор А. И. Урусов, который знал Бальмонта со времен его голодной и неустроенной юности и мог поведать о нем больше, чем кто-нибудь другой.
В Ялте Чехов поселился на даче Бушева, и здесь, в Крыму, в последние теплые недели сентября он постоянно виделся с редактором «Журнала для всех» В. С. Миролюбивым, Ф. И. Шаляпиным, С. Я. Елпатьевским, а также с Бальмонтом и его женой. Они и скрашивали главным образом дни «скучающего скитальца», как сам Чехов писал тогда родным о себе. 19 сентября 1898 года Чехов сообщил Д. С. Малышеву: «Константин Дмитриевич Бальмонт в настоящее время находится в Ялте и пробудет здесь еще одну неделю» (XVII, 308).
По возвращении в Петербург Бальмонт послал Чехову несколько писем – это первые из дошедших до нас документов их переписки.
«Брюсовский п., д. Андреевых
29 сентября 1898 г.
Москва
Дорогой Антон Павлович6,
Привет Вам с холодного Севера!
Я сказочно удалился в эти сырые области, окруженный теплотою неожиданного участия, и, представьте, всю дорогу беседовал с незнакомой Вам поклонницей Вашей – но какой! При всей моей любви к Вам, я наконец утомился и запретил ей говорить о Вас. Ревность.
Был в книжном магазине Рассохина, нашел довольно чудовищный перевод «Ченчи» 7, изготовленный уже давно Вейнбертом, испытал тщеславное удовольствие и, кстати, спросил, как идут Ваши пьесы8. Мне сказали, что превосходно и что в магазине уже продались все экземпляры, какие у них были. О Вас здесь очень расспрашивают.
Что касается меня, я вчера в первый раз в жизни надел халат, нашел, что это костюм удобный, и считаю посему 28 сентября датой исторической. Однако и романтика, и богема, и южный полюс луны, где вечный свет, влекут меня по-прежнему, и до несносности. Право, я должен пожалеть, что я не сделайся профессором политической экономии, к чему когда-то готовился9. То-то была бы тишина в душе! Прощайте. Желаю Вам доброго здоровья.
Ваш К. Бальмонт.
-
-
-
-
Жена моя Вам сердечно кланяется. Я буду писать Вам часто».
-
-
-
«М. Итальянская, 41
10.XI.1898 г.
Дорогой Антон Павлович,
У меня болела рука, – болит и по сие время, – потому я был так неаккуратен по отношению к Вам. Прежде всего о деле. Я видел Слуневского10, говорил с ним о Вашем поручении, но, кажется, толку из этого выйдет мало. Он сказал, что г-жа Чмырева должна подать прошение об увеличении пенсии в то учреждение, откуда она ее получает, и одновременно пусть она напишет Случевскому (Конст. Конст., Николаевская ул., д. 7), что такое-то прошение тогда-то отправлено туда-то. Он сделает со своей стороны все от него зависящее, чтобы прошение не осталось втуне.
Простите, ради Бога, что я так неаккуратен. Но после всех болезней, огорчений и непосильного труда, остающегося пока в безвоздушном пространстве, я переживаю отчаянное утомление. Какие здесь людишки, какой воздух, какие нравы, о, Боже! Что может быть лучше собственной комнаты и «полки книг»? Разве только новые странствия. Я вижу здесь всю литературную сволочь, какая только возросла на местной болотистой почве. Поросли ее гнусны и непотребны. Здесь мысли берегут и не высказывают, боятся, что вы украдете их. Украсть душу! Да как же это возможно? Впрочем, и мыслей и чувств у всех этих марионеток так мало, что, правда, они должны быть расчетливы. Хоть бы им вспрыскивание серома, что ли, сделать или, по старому методу, кровь пустить, чтобы, ставши окончательно бескровными, они по крайней мере приобрели интересность нереальных теней. Межеумочные головы. Но, впрочем, черт с ними.
Думаете ли Вы остаться на всю зиму в Ялте или поедете за границу? Я вчера много говорил о Вас с Сувориным11, который, по-видимому, очень Вас любит.
Перевод Ваших «Мужиков» печатается в «Revue des Revues», что, впрочем, Вы, вероятно, уже знаете. Что делается теперь в Ялте? Видаетесь ли Вы с кем-нибудь или больше сидите дома? Мне писал о Вас Урусов12, что Вы вместе проводили время. – Я перевожу, и читаю, и перечитываю Кальдерона13. Кончил перевод одной его драмы и на днях кончу перевод другой и не знаю, что с ними делать. Никто их, конечно, печатать не станет, да и прочтут не более 200 человек. Впрочем, я не унываю и хочу перевести не менее 15-ти пьес Кальдерона. Какая бы судьба его ни постигла в России, он должен возникнуть в русской литературе. Он нисколько не менее интересен, чем Шекспир, только он более национален, менее общедоступен, он философ и мистик, он экзотичен, причудлив и пышен, как все истинно испанское. И герои его в своей судьбе превышают человеческое. Уже это одно делает его пленительным.
До свиданья.
А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIII, Гослитиздат, М. 1948, стр. 274. Все последующие ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.[↩]
Ср.: С. Б. Михайлова, Из творческой истории пьесы А. П. Чехова «Чайка», в кн. «Пьеса и спектакль». Сборник статей, Л. 1978, стр. 115 – 117[↩]
«Литературное наследство», 1960, т. 68. «Чехов», стр. 407.[↩]
И. А. Бунин, Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, «Художественная литература», М., 1967. стр. 211.[↩]
См.: Ю. В. Соболев, Комментарий к «Чайке», в кн. «Ежегодник Института истории искусств», т. II. Изд. АН СССР, М. 1948, стр. 143 – 163; П. Громов, Станиславский, Чехов, Мейерхольд, «Театр», 1970, N 1, стр. 86; Г. Бердников, Чехов-драматург, «Искусство», М. 1992, стр. 95 – 166.[↩]
Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 331, к. 36, ед. хр. 16-а. Все последующие письма Бальмонта к Чехову печатаются по этому источнику без повторных ссылок.[↩]
Трагедия в стихах П. -Б. Шелли «Ченчи» (1819) была переведена на русский язык П. И, Вейнбергом (1831 -1908), а в 1897 году – Бальмонтом.[↩]
Имеется в виду сборник А. Чехова «Пьесы» (СПб. 1897), в который вошли «Лебединая песня», «Иванов», «Медведь», «Предложение», «Чайка»[↩]
Мечтая стать профессором политической экономии, Бальмонт поступил в 1886 году на юридический факультет Московского университета, откуда был исключен в ноябре 1887 года за участие в студенческих беспорядках.[↩]
К. К. Случевский (1837 – 1904) – известный русский поэт и прозаик, публицист, с 1891 года – редактор «Правительственного вестника», пользовался большим влиянием в официозных кругах. С 1898 года в доме Случевского по пятницам регулярно собирались поэты и литераторы, Бальмонт был частым гостем на этих собраниях.[↩]
А. С. Суворин (1834 – 1912) – публицист, литератор, театральный критик и меценат, с 1876 года издатель реакционной газеты «Новое время», на протяжении многих лет был дружен с Чеховым и вел с ним постоянную переписку.[↩]
А. И. Урусов (1848 – 1900) – князь, известный московский адвокат, литератор, оказал существенную помощь Бальмонту в молодости и имел большое личное влияние на него.[↩]
В 1900 – 1912 годах Бальмонт осуществил издание сочинений Кальдерона в трех томах, куда вошли его основные пьесы [↩]
«Вопросы литературы» © 1980, Нинов А.