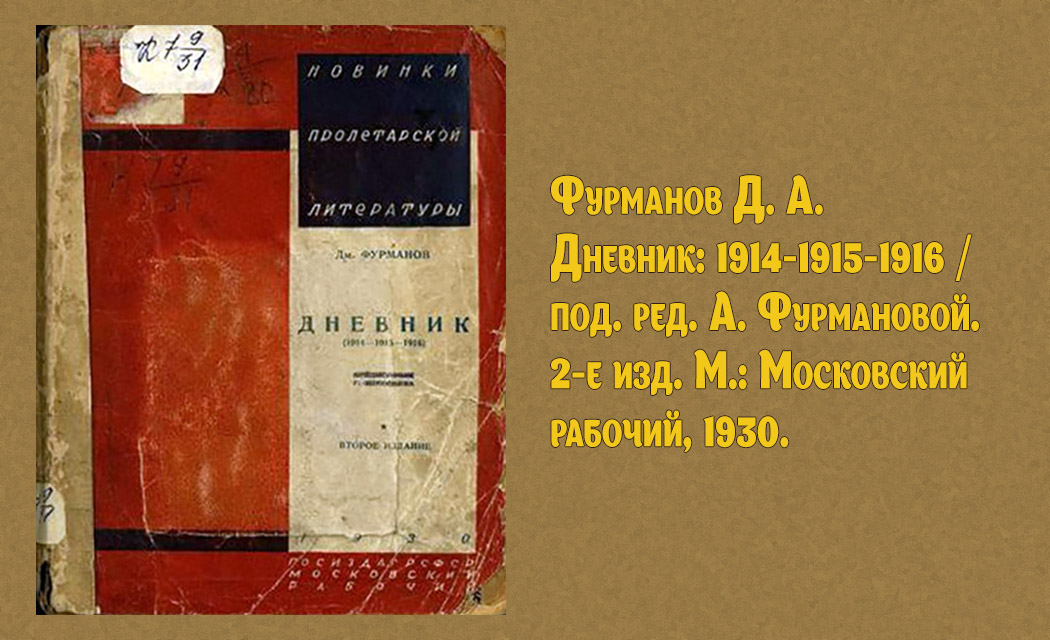Две души
Я – маленькая девочка. Что такое душа неведомо мне. Живу легко, как одуванчик, не знающий, что ему суждено разлететься от одного лёгкого-лёгкого дуновения сложенных трубочкой губ.
Печалей нет в том мире, где я живу.
Мир огромен. Много радости, солнца, света…
Первый раз… когда это было?
Хоронили нашего соседа. Ветерана войны Степана Алексеевича. У него после контузии была частичная потеря памяти. Он клеил коробки на картонажной фабрике. Вообще-то он мог не работать. Инвалид, пенсия. Но врачи рекомендовали ему трудотерапию. Тихий был такой, аккуратный, с жёлтыми от табака усами.
Но иногда… О, это иногда! Он закрывал ворота, отделяющий наш маленький дворик от узенькой улицы, мощённой булыжником, на которой машины были редкостью.
Степан Алексеевич закрывал ворота на ржавый засов, как закрывали их на ночь – в нашем дворе хранились бесценные по тем временам вещи: верёвки, палки, которыми подпирали эти верёвки, простыни в аккуратных латках, белые подштанники с завязками свободно трепыхались в небе нашего двора.
Он прислонялся к воротам спиной и с какой-то отчаянной смелостью и силой, неожиданной для такого тихого человека, кричал: «За Родину! За Сталина!». И бросал в кого попало обломки кирпичей, палки, булыжники. Двор становился полем боя, отрезанным от большой Земли. Все прятались по своим комнатам и палисадникам. Степан Алексеевич был страшен.
Обычно кто-то из соседей стучал к нам, обладателям квартиры с двумя входами – парадным с улицы и черным во двор.
Преимуществ, о которых постоянно судачили, на самом деле, не было никаких – длинный сквозной ряд комнат, громко называемый в архитектурной семье – анфиладой, но без окон, с вечно горящими электрическими лампочками на длинных шнурах. Комнаты были проходными, неудобными, но их было три, не считая застеклённой веранды – барские условия. А ещё у нас был рояль. Это тоже не нравилось соседям. Хотя другой мебели (да простит меня бог: рояль – мебель) у нас практически не было. На нем стоял аквариум, швейная машинка «Зингер», настольная лампа под оранжевым абажуром с шёлковыми кисточками. Когда к нам приходили гости, мама играла им «Утомлённое солнце» и «Вернись в Сорренто». Гости восхищались маминым умением, а рыбки сходили с ума. Резко всплывали. Подплывали близко-близко к стеклу и смотрели на нас страдающими холодными глазами.
На полированной крышке рояля, которая совершенно непонятно почему, не служила нам ещё и зеркалом, я делала стоя уроки, что, естественно, не позволяло мне трудиться в полную силу. Мне этого и не хотелось. За окном шумела и манила улица…
Так вот… Кому-то из соседей приходила в голову мысль проскочить через нас на улицу и вызвать карету «скорой помощи» и участкового милиционера Анвара. Друга, советчика всей нашей улицы. Иногда он пил у нас чай и рассказывал о жутких безобразиях, которые творятся на других улицах. Мы его слушали почтительно и сами себе завидовали. Говорили, что у него в кобуре настоящий наган.
Карета «скорой помощи» приезжала, зачем-то ломались ворота, хотя проще было пройти через нас, и начинался финальный этап происшествия – окружение бедного Степана Алексеевича.
Лысые санитары и возбуждённые соседи суетливо бегали по двору. Степан Алексеевич героически отстреливался кирпичами, затем, по собственному выражению, брался в плен. Он плевал санитарам в лицо и кричал: «Русские не сдаются! Они – умирают!». Ему заламывали руки и связывали длинным вафельным полотенцем. Смирительную рубашку я увидела только в кино.
Его увозили в дом скорби – так говорили взрослые. Он лежал в больнице долго.
Становился тихим, печальным, и ему все было безразлично.
Тётя Наташа, соседка, верующая, ещё не старая женщина, навещала его каждое воскресенье. Пекла пирожки с картошкой, набирала гранёный стакан брусничного варенья, присланного из России братом Августом, покупала полную авоську «Беломорканала» и шла в больницу. Только сначала заходила в церковь, а после больницы на базар. Все было рядом – церковь, психушка, базар.
– Ему сильно лучше, – сообщала она всем вечером, угощая семечками.
И все обсуждали это, думали, может быть, ещё поправиться, семьёй обзаведётся, и лукаво поглядывали на тётю Наташу, которая хоть и верующая, а черта из печки вытащит и рога ему обломает, и давали друг другу обещания непременно навестить Степана Алексеевича.
Но никто так и не собрался…
А потом он умер в больнице – от решёток на окнах, как говорила тётя Наташи.
Степана Алексеевича хоронили всем двором, скинувшись и на гроб, и на новый костюм, и на поминки, чтобы все было, как у людей. Не просто дворового сумасшедшего хоронили, а героя войны, у которого кроме нас, никого на свете не было.
Духовой оркестр играл траурный марш Шопена и почему-то «Вы жертвою пали». Страшно ухали медные тарелки, тяжело вздыхала латунная туба. Мы несли ордена и медали на красно-черных подушечках, сшитых ночью моей мамой.
Ярко светило солнце. Весело пели птицы. Степана Алексеевича, меняясь, несли все мужчины нашего двора, его одноногий друг с картонажной фабрики, представитель военкомата и участковый Анвар.
В конце улицы остановились, замолчал оркестр. Поставили гроб на бортовую машину, и несколько мужчин запрыгнув, стали приколачивать гвоздями, крышку. Звук был оглушительный. Хотя вокруг стояла мёртвая тишина.
С кладбища вернулись быстро. Прощального салюта не было. Только один раз Анвар выстрелил в воздух.
Поставили столы во дворе. Накрыли их свежими газетами, разложили тарелки, ложки, поставили стопки. Напекли блинов. Сделали целый таз винегрета. Ели, пили, пели: «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…». И нетронутой стояла стопка Степана Алексеевича, накрытая горбушкой. Вот тогда и сказала тётя Наташа:
– Душа болит, прямо разрывается.
– Что у вас болит? – не поняла я.
– Душа.
– А где это?
– Серёдка в сердце, самая главная.
Вечером, крутясь на своей раскладушке, переполненная событиями длинного дня и никак не засыпая, я спросила у мамы:
– Мам, у тебя душа есть?
– Есть, конечно, – мама посмотрела на меня как-то странно.
– А у меня?
– Тоже есть, только ещё маленькая.
– А её можно было бы увидеть, как на рентгене?
– Было бы интересно, но я не хочу, спи, моя хорошая.
– Ну, мам…
– Душу увидеть нельзя. Запомни: человек без души жить не может, он умирает, даже, если ещё жив.
Я пыталась представить, как выглядит душа. Мне казалось, что она похожа на сердце. Бьётся, волнуется…
Вдруг Степан Алексеевич (я совсем не испугалась) присел на край раскладушки и взял меня за руку. Рука была тёплой. «Живой!» – обрадовалась я во сне.
– У тебя будет две души – твоя и моя. Бывают же две макушки. Считается, что это на счастье. Я тебе свою оставлю.
– А две разве бывают?
– Когда человек живёт, все бывает. Лишних душ не найдёшь. Пригодится.
Так я и живу с двумя душами. Одна – вечно утомлена, суетлива и обидчива. Ей не нравится оболочка, в которую заключена. Не туда залетела.
Другая, как вечный фонарик, с бьющим вдаль ярким лучом. Без света не сразиться с жизненной тьмой, не победить обстоятельств, не написать важных слов. Душа может все - осветить, согреть и возвысить. Если она есть, конечно…