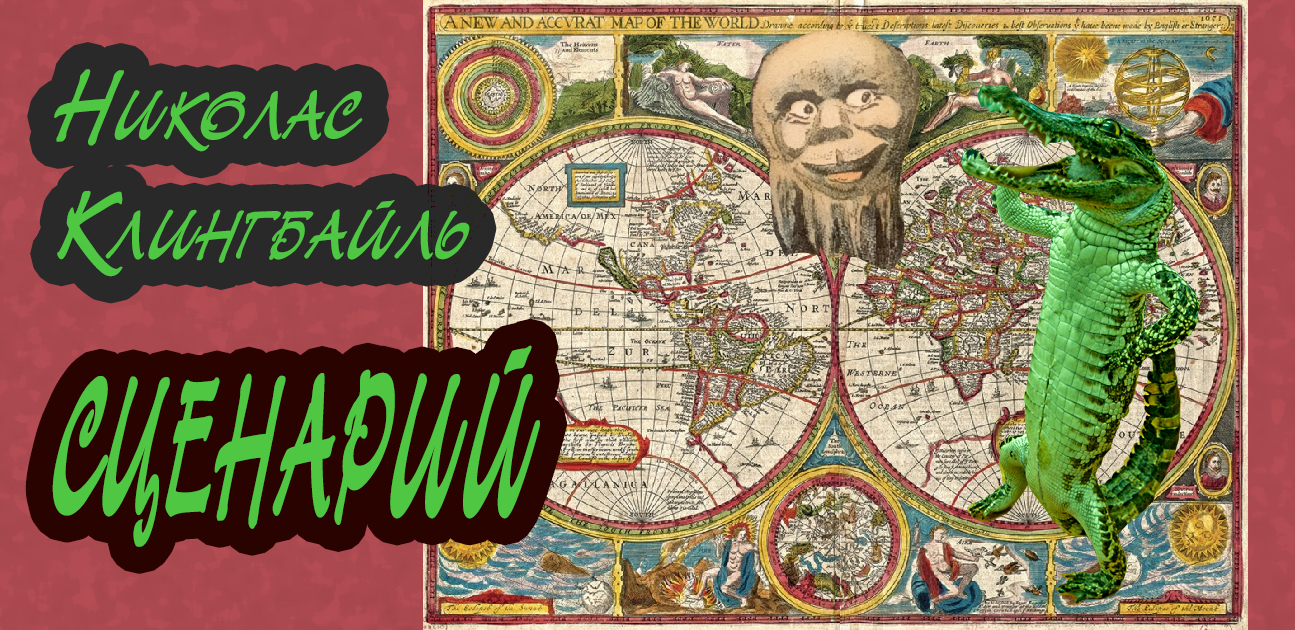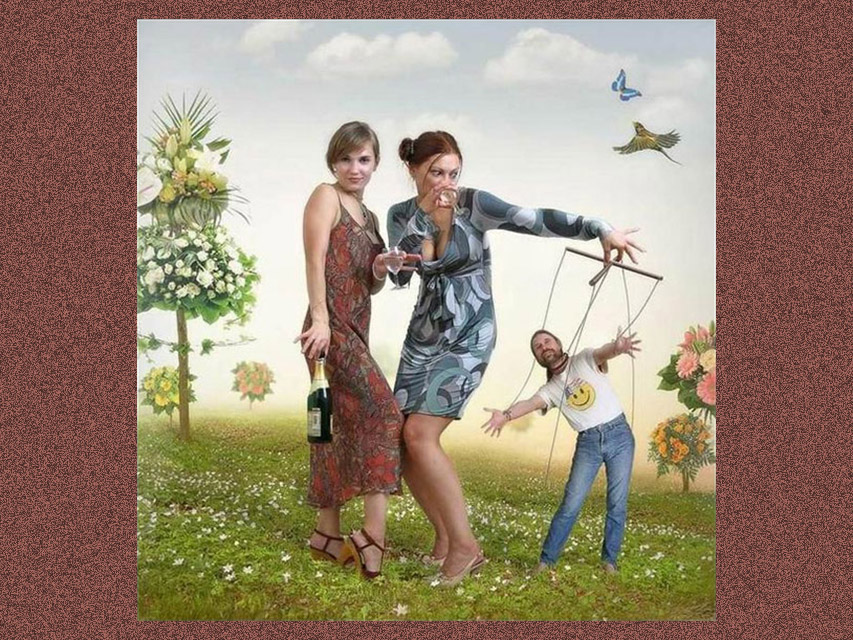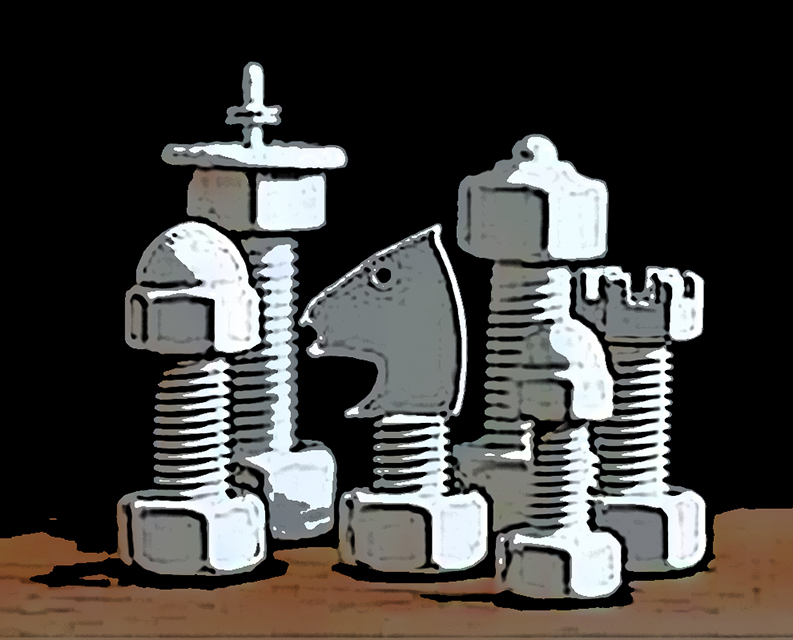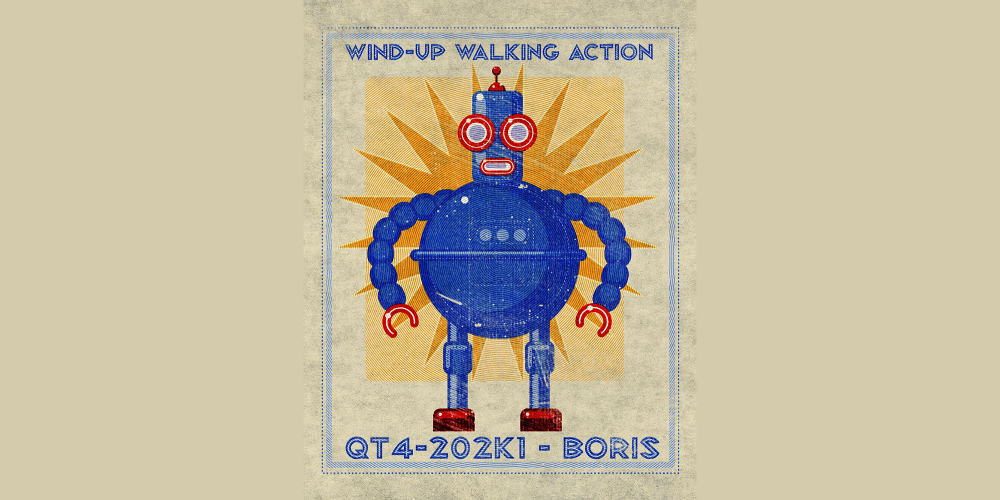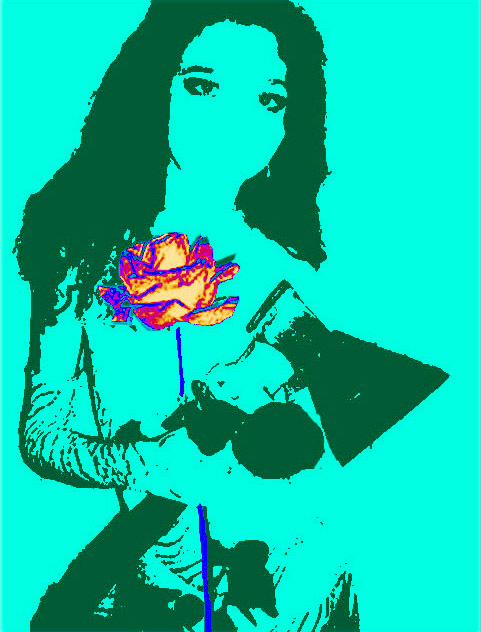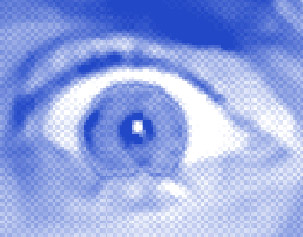Новое о неизвестном
«НЕ ВИДАЛ ПИСАТЕЛЬ САХАЛИНА»

Новое о неизвестном
Внимательный читатель уже понял,
что название этой рубрики –
полная ахинея.
О неизвестном ничего и неизвестно.
Это просто пародия на жёлтую прессу –
с ее дутыми сенсациями,
убогим стилем и бредовым
содержанием.
Доктор исторических наук Равиль Давлетьярович Баратурин из Уфы несколько лет вел исследования в рассекреченных недавно областных архивах города Иркутска. Много тайн хранили пожелтевшие листки отчетов, донесений, официальных документов более чем вековой давности. Некоторые из них напрочь перечеркивают наши представления об истории и ее знаменитых персонажах.
Так, например, учёный Баратурин установил прелюбопытнейшие факты о пребывании великого русского писателя Антона Павловича Чехова в Иркутске – по дороге на Сахалин, куда писатель отправился за новыми впечатлениями для очередного литературного труда. Судя по записям, изданным Чеховым в конце ХIХ века над названием «Остров Сахалин», писатель побывал в каторжном краю летом 1890 года. Однако иркутские архивы весьма убедительно опровергают эту версию.
Вот как, согласно исследованию башкирского ученого, выглядели события тех далеких лет на самом деле.
…Весной незабвенного 1890 года, когда цвели сады утопающего в зелени провинциального, деревянного Иркутска, любуясь синевой реки Ангары и серой прохладой озера Байкал, великий писатель прибыл в губернский центр Восточной Сибири в преотличнейшем настроении. На вокзале мастера русской словесности встречал толпа почитателей – местная интеллигенция, включая крестьянского поэта Вельямина Позорищева и жандармского ротмистра Дранковича, пописывающего тайком очерки нравов. А также, разумеется, присутствовали директор центральной гимназии города, актеры драматического театра, купцы-благотворители, дамы-читательницы и даже один представитель духовенства, недавно прибывший в дикий, по его понятиям, Иркутск из просвещенного, по его же понятиям, Саратова.
Не дав московской знаменитости ни отдохнуть, ни перекусить, почитатели повели Антона Павловича прямо с вокзала в центр культурной жизни Иркутска – центральную городскую гимназию. Несмотря на обилие в толпе именитых людей, командовал маневрами директор гимназии – добрый мягкий человек, преподававший здесь же латынь и математику.
Гимназисты старших классов выстроились в коридоре, и шествующий мимо них автор «Вишневого сада» был похож на генерала, принимающего парад. Между тем директор гимназии вывел за рукав из строя рослого, довольно взрослого вида юношу, с бородкой похожей на чеховскую.
– Константин Веретенский, наша гордость и надежда! – представил юношу директор гимназии, поглядывая на стоявшего тут же Веретенского-старшего, члена попечительского совета. – Прочти, Константин, пожалуйста, свой последний литературный опус!
Малый откашлялся и, нисколько не смущаясь великого писателя, проникновенно зачитал следующие строки:
– Я помню мгновенье чудесное,
Передо мной явилась ты, прелестная.
Мимолетная, как мгновенье.
Гений красоты на загляденье.
Малый был обаятелен, развязен, мнил себя особым существом и, хотя не слетел с него до конца юношеский провинциальный романтизм, однако чувствовалось, что впоследствии из молодого человека состоится или крупный чиновник-взяточник, или плутоватый коммерсант, или же, на худой конец, бессовестный главарь революционной подпольной дружины.
– Второй Пушкин! – посмеиваясь в ладонь, сказал директор гимназии.
Соученики Кости Веретенского поглядывали на него с откровенной завистью и неприязнью. А московский писатель, с присущей ему интеллигентностью, покивал бородкой, поблескивая пенсне, и нетерпеливо обратил свой взор на выход из гимназического коридора.
Еще через некоторое время сопровождавшая заезжую знаменитость группа лиц заметно поредела, а оставшиеся расселись по извозчикам и покатили на обед в лучшую гостиницу города «Трокадеро», где писатель должен был провести пару дней, прежде чем отправиться далее на восток России. Угощал почитателей таланта все тот же Веретенский-старший, известный на всю округу своей щедрой благотворительностью.
За обедом Антон Павлович повеселел, выпил пару рюмок местной кедровой водки и даже рассказал свежий московский – очень тонкий и пристойный – анекдот. И, наконец, избавившись от всякого сопровождения, остался у себя в номере «люкс».
День клонился к закату, спать пока не хотелось, ленивые мысли в голове не удерживались, перетекая одна в другую… Тут в дверь постучали. На пороге стоял разлапистый служащий гостиницы и плотоядно улыбался. Улыбка плохо шла свирепому лицу громилы, но тон речи был смиренный.
– Не угодно ли Вашему превосходительству посетить одно заведение? – со всей возможной вежливостью спросил разлапистый служащий.
– Э, заведение? – бесстрашно пробормотал Чехов, успевший за свою врачебную и литературную практику насмотреться всяких человеческих существ.
– Да-с, Ваше превосходительство, - дружелюбнее некуда молвил громила, чуть ли не подмигнув писателю. – Дамы первого сорта. Прямо скажем, высшее общество. Цены, сами понимаете, куда ниже, чем в столицах.
Короче говоря, так уж получилось, что, соскучившись в долгой поездке по женскому полу, писатель решился посетить один, так сказать, дом. Барышни были и впрямь по-сибирски свежи, и недороги, и Антон Павлович с удовольствием угощал их местной водкой, настоянной на местных же кедровых орешках.
Выпив водочки по второй, барышни (их звали Даша, Маша и Розалия) нестройным хором признались симпатичному столичному гостю, что больше всего из его произведений им нравится пьеса «На дне», которую в прошлом году поставил любительский театр при городском пушно-зверовом училище. В этой пьесе (одновременно заявили Даша, Маша и Розалия) они узнали себя, как жертв невыносимых социальных условий. А наиболее бойкая из товарок – Даша, закусывая шоколадом «Кунст», сообщила Антону Павловичу, что читала также его душещипательную повесть «Яма» о несчастных девушках из увеселительного заведения вроде того, где они все сейчас пребывают.
– Экая душечка, эта Дашенька! – подумал писатель. – Да и прочие весьма, весьма.
И хотя упомянутые пьеса и повесть были вовсе не его пера, но все же некоторая образованность недорогих и свежих барышень Чехова умилила.
– Провинция-провинция! Поселиться бы прямо здесь навсегда! – на миг посетила Антона Павловича нелепая идея, но тут же исчезла под натиском Даши, Маши и Розалии, которые приступили к своим прямым обязанностям с похвальным усердием.
В утехах и гулянии пролетело два дня. Никогда, до того и после, великий писатель так дико не выступал. Например, к исходу первого дня гулянки он уже перестал пугаться одноглазого цыгана с черной бородой, в красной рубахе, с серьгой в ухе и золотистой гитарой в руках. И даже подпевал приятным тенором зычному басу цыгана:
– Все, что было,
Все, что было,
То давным-давно уплыло…
На третий день, ощутив невероятную усталость, а также слабые позывы совести и чувства долга, Антон Павлович попросил знакомого разлапистого громилу доставить его обратно в гостиницу. Тишина пустынного номера придала мыслям писателя меланхолическое направление.
– Интеллигентный человек, право, а веду себя, право же, как свинья! – с досадой думал он, сидя на кровати в нижнем белье. И, не в силах встать, чтобы дойти до ближайшего цирюльника и сбрить, наконец, трехдневную щетину на щеках, Антон Павлович вызвал колокольчиком полового. Велел принести к нему в номер тазик с горячей водой, бритву, зеркальце и прочие парикмахерские принадлежности.
Дрожащими после гулянки руками писатель намылил себе лицо, провел бритвой по щеке… Но движение было неровным и – о ужас! – часть знаменитой чеховской бородки оказалась сбритой. Вид с оставшейся половиной бороды был настолько нехорош, что горемыке-литератору не оставалось ничего иного, как сбрить весь остаток волос на подбородке.
Лишенное интеллигентского клинышка, лицо писателя сильно преобразилось. Усы, оставшись без бородки, торчали на бритом лице грозно, а само выражение лица обрело какой-то восточный облик. Если б не пенсне на носу, Антона Павловича можно было бы принять за строптивого горца – князя, торговца, или даже разбойника.
– В Москву, в Москву, в Москву! – тоскливо подумал писатель, но сил принимать твердые решения пока не хватало. – Надо поспать! Да, поспать!..
Тем временем неподалеку от гостиницы «Трокадеро», где забылся тяжким сном Антон Павлович Чехов, происходили события, оказавшие большое влияние на разразившуюся далее историю. В кабинете губернского жандармского управления ротмистр Дранкович знакомился с содержанием секретной депеши, доставленной ему спецкурьером из Петербурга. Подобные документы поступали в органы сыска и дознания с частотой два раза в месяц, и содержали сведения о разыскиваемых преступниках, в основном, политического характера. Вот и на этот раз депеша, кроме указанных ранее революционеров, сообщала о новом смутьяне – беглом ссыльном. Точные данные о нем отсутствовали, за неимением оных, зато было указано, что это Иосиф Джугашвили – рыжеватый кавказец, с усами, склонен прикидываться добропорядочным обывателем и даже не гнушается присваивать себе известные имена. Носит подпольную кличку Коба.
Ротмистр без всякого интереса прочитал розыскные данные на Кобу Джугашвили, и так же лениво глянул на фотографическую карточку кавказского преступника. Распечатанная типографией Главного жандармского управления в Санкт-Петербурге, карточка Кобы была очень плохого качества. Узнать человека с фотоснимка, даже сиди он сейчас напротив ротмистра, Дранкович бы не смог. Этот самый Коба был, с одной стороны, нечетким и расплывчатым, с другой же стороны, похож на сотни тысяч молодых усатых людей во всём мире.
– С одной стороны, с другой стороны, - кисло бормотнул ротмистр и, отвлёкшись от депеши, допил холодный чай из стакана с подстаканником. Мысли Дранковича, не чуждого литературных занятий, витали теперь вокруг заезжего московского писателя. Конечно же, ротмистру донесли из восьми источников о веселых похождениях Чехова. И хотя Дранкович происходил из набожной католической семьи, сам он ни в бога, ни в черта не верил. А потому за безнравственность Антона Павловича не осуждал. К тому же, очень справедливо полагал, что писатели – народ богемный, и без хорошей попойки с девицами им просто никуда.
Кстати сказать, именно как литератор, а отнюдь не как офицер грозного имперского ведомства, Дранкович и сам нередко посещал тот самый, так сказать, дом, где только что куролесил московский коллега.
– Показать или не показать этому баловню богемы мои опыты? – вот какой, почти гамлетовский вопрос мучил сейчас ротмистра. – Вдруг засмеет? Известный насмешник!.. Впрочем, явлюсь к нему в жандармской форме, при ней не очень-то посмеешься.
Довольный найденным решением, Дранкович тут же опять задумался. На этот раз предметом его озабоченности был вопрос: что именно из написанного им показать москвичу. Много нельзя, человек после кедровой водки. Мало показать – тоже негоже. «Подумает, что я разок-другой всего и баловался».
В конце концов, ротмистр отобрал из своих литературных наблюдений четыре очерка, в которых назидательно описывал бесчестность торговцев картофелем, нерадивость дворников, ухарство лихачей-извозчиков и плохое воспитание трактирных половых.
– Это ему будет по нраву! – убеждал Дранкович сам себя, отбирая в делопроизводительскую папку два десятка листов, отпечатанных на пишущей машинке жандармского управления вахмистром Жущей за небольшую плату.
Волнение начинающего автора перед маститым писателем улеглось у ротмистра Дранковича только тогда, когда в номере «Трокадеро» он увидел Чехова без бороды.
– А в нем, решительно, есть что-то южное! – наблюдательно подумал жандарм. – Уж не кавказских ли кровей этот словесник? Да и гулял он с размахом…
– Чем могу? – уныло спрашивал Антон Павлович, глядя на синий мундир.
– Я вот тут, Антон Павлович, хотел показать, - засмущался, было, офицер, как вдруг его осенило: «Никакой это не Чехов. Тот из немцев, помню. А этот явно армяшка. Где-то я его встречал, подлеца. Недавно. Кто? Коба? Так и есть, Коба!»
Дранкович сразу обрёл уверенность. Профессионал высокого класса. Как-никак, почти два десятка лет службы по охране порядка в государстве.
– Извольте, сударь, одеться и следовать за мной! – вежливым, но приказным и холодным тоном велел он писателю.
– Куда? Зачем? – жалостливо изумился Антон Павлович.
– В жандармское, для беседы! – еще более ледяным голосом произнес ротмистр.
Чехов не сомневался, что речь пойдет об его шалостях в одном, так сказать, доме. Он понуро повиновался и вскоре оказался в кабинете Дранковича.
Еще по дороге ротмистр выработал хитроумный план: огорошить преступника вестью, что ему, Дранковичу, давно и доподлинно известно, кто такой этот, так называемый Чехов.
– Извольте снять пенсне! – потребовал жандарм, как только кавказский разбойник уселся перед ним на стул. Затем ротмистр исподтишка глянул на извлеченную из сейфа фотографическую карточку Джугашвили, сравнивая лица заезжего москвича и беглого ссыльного. Похоже, очень похоже.
– Чем могу? – упрямо повторял Антон Павлович. - Чем могу?
– Эх, Коба, Коба! – внезапно громко и внятно произнес ротмистр, пристально глядя на собеседника. Не выдаст ли себя чем.
Однако усатый москвич никак не отреагировал на тираду Дранковича. Он даже не понимал, что означает слово «Коба». В его представлении это могла быть какая-то местность в Забайкалье, или сорт орешника, вроде кедрового. И уже, на крайний случай, писатель мог принять слово «Коба» за какой-то замысловатый жандармский жаргон.
– Вот это стойкость! – с сарказмом сказал Дранкович. – Ох, люблю революционеров, знаете ли!
– За что? – удивленно спросил Чехов, будучи в тяжелом состоянии духа и не уловив сарказма. – За что революционеров любите?
Ротмистр чуть не помрачнел сознанием.
– Ну, знаете ли! – заволновался он. – Это шутка.
И тут жандарм ясно понял, что обознался. И понял также, что московская знаменитость не догадалась, какой конфуз получился. И еще раз, глянув на лицо писателя, Дранкович профессионально почувствовал: будь этот Чехов каким-нибудь Джугашвили, так уж он не бороду бы сбрил, которая его прикрывает, а, в первую очередь, уличающие усы.
– Покорнейше прошу милости! – сказал ротмистр, повеселев и взбодрясь. – Я вас, Антон Павлович, пригласил тет-а-тет, чтобы признаться в грешках, своих слабостях.
Упоминание о слабостях и грешках еще сильнее опечалило писателя. Но ротмистр неожиданно перешел на заискивающий тон:
– Я тут, Антон Павлович, тоже не чужд словесности. Очерки пописываю о наших буднях, хотел указания ваши услышать. Очень лестно было бы-с!..
Тут уж Чехов расстроился невероятно, и не слишком умело начал врать:
– С удовольствием бы ознакомился, господин офицер. Но не могу, времени нет. Срочно отбываю на Сахалин…
– Какой Сахалин! – вскричал Дранкович. – Куда ж вы в таком-то виде? Да вас же на первой станции не опознают, схватят как какого-нибудь беглого Кобу!.. Нельзя вам ехать, дражайший Антон Павлович, честное слово!..
К счастью, писатель не обратил внимания на вновь прозвучавшее загадочное словечко. Но что ехать дальше пока не надо бы – осознал.
– Погостите у нас, какая погодка, прямо Ницца! – яростно настаивал жандарм-литератор Дранкович. – Барышни, опять же! Любят вас у нас, Антон Павлович! И почитать что, тоже найдется. Как я уже говорил, пробую перо. Вам интересно будет!
Ротмистр ловко выудил из сейфа слегка початую бутылку польского коньяка. И все было бы хорошо, да злосчастный Чехов еще при отбытии из Москвы телеграфировал губернатору Сахалина о своей поездке. И теперь отложить таковую было бы свинством и скандалом. Но изощренный жандармский ум сразу нашел решение: внедрить на Сахалин вместо Антона Павловича какого-нибудь другого писаку.
– Кого же, кого? – Чехову идея понравилась, тем более он представил радость Даши, Маши и Розалии.
– Жаль, мне невозможно, - задумался ротмистр. – Служба! А вот кто, гимназёр этот, Кока Веретенский! Стихи пишет, и отец вполне почтенный.
– А справится желторотый юноша? – с тревогой спросил Чехов, попыхивая папироской.
– Наглец тот еще! – успокаивал его ротмистр, отгоняя рукой дым от папиросы. Сам он не курил. – У папаши Веретенского, знаете, какой извоз? Почти тысяча работников, все тут держит! Благодаря титаническим реформам благословенного нашего императора-освободителя!..
Слово «титаническим» далось Дранковичу не без труда. Польский коньяк был великолепен.
– Выпьем за здравие государя! – воскликнул ротмистр и, не дожидаясь реакции писателя, хватанул очередную рюмку.
Чехов от тоста поморщился слегка, но тоже выпил. Коньяк был точно великолепный.
…Еще через день, получив от писателя и ротмистра в кабинете жандармского управления инструкции и наставления, с поддельными документами на имя Антона Павловича Чехова, изготовленными вахмистром Жущей, получив от папаши кругленькую сумму и письмо к сахалинским купцам первой гильдии, на восточную окраину империи отправился довольный гимназист Кока Веретенский.
В силу природной наглости и взращенной хитрости он не только преспокойно добрался до Сахалина и очаровал там местное общество, но даже исписал огромное количество бумаги своими впечатлениями. Эти бумаги, уже вернувшись из Иркутска в Москву, получил почтой Антон Павлович Чехов. В литературном отношении записи наглого Коки никуда не годились, но материал он собрал обширный и увлекательный. Выправив неумелые гимназические строки своим гениальным пером, великий русский писатель Чехов выпустил эти заметки.
Об интереснейших эпизодах пребывания Константина Веретенского на Сахалине доктор исторических наук Баратурин надеется отыскать записи в архивах Южно-Сахалинска. Как только у него будет на это время и разрешение от властей.