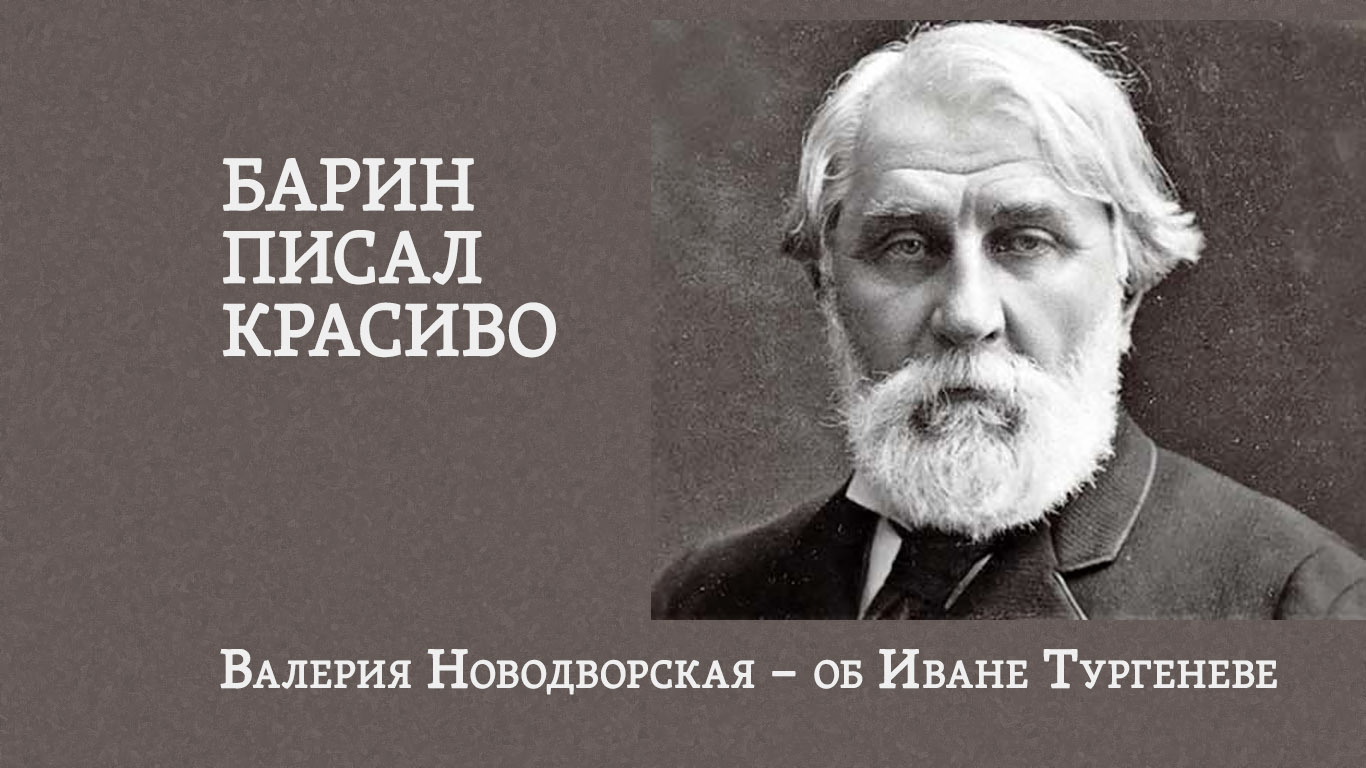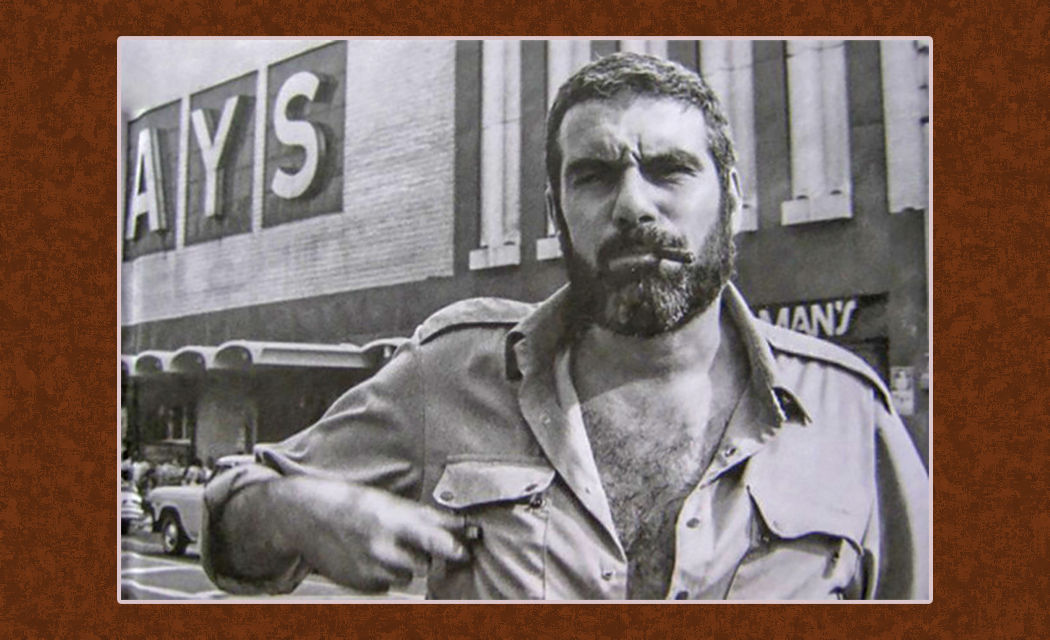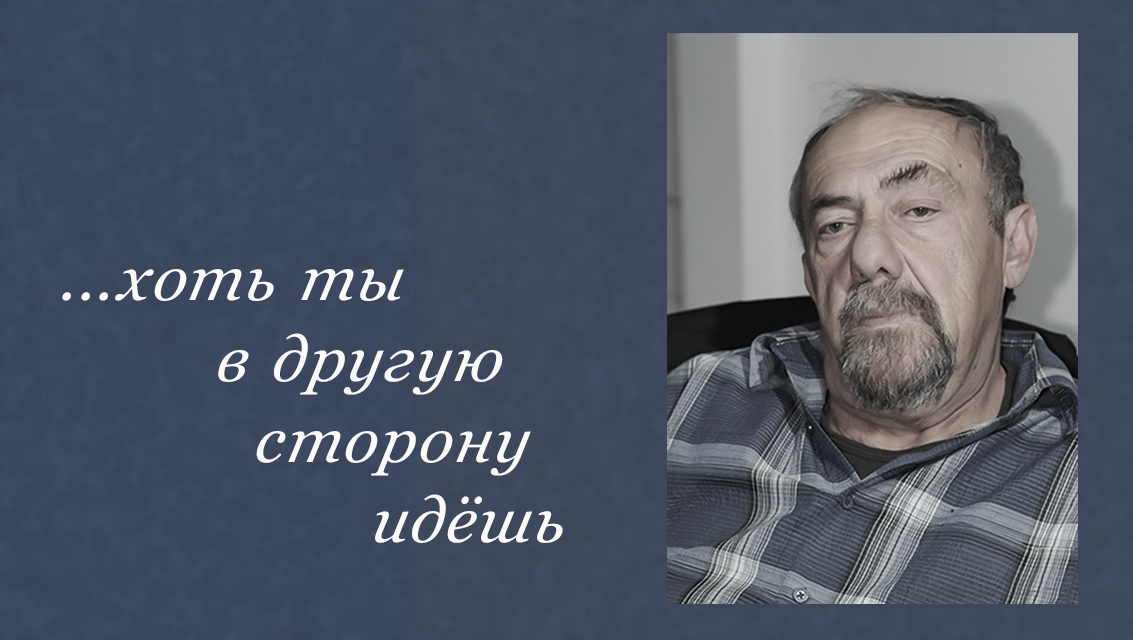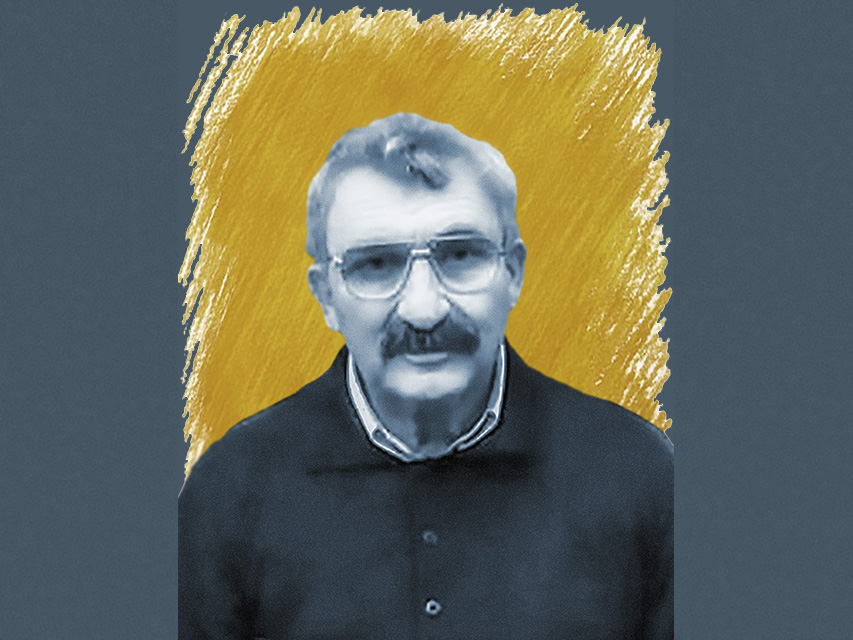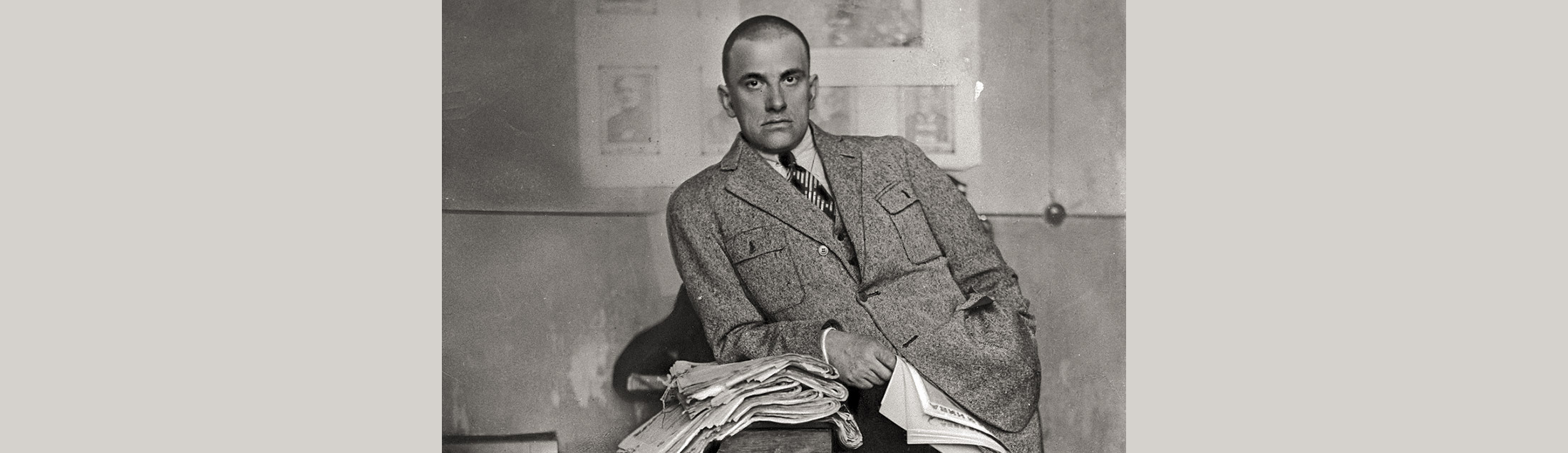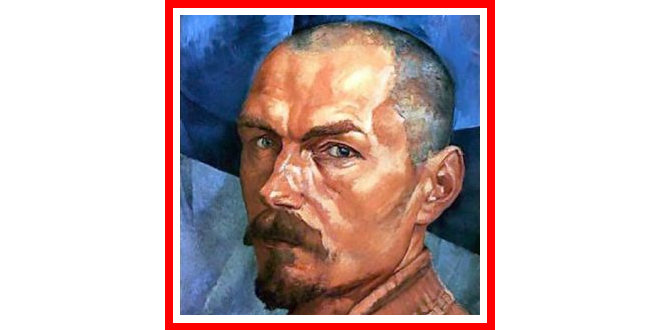Это Псковщина на границе с Латвией (деревня Орино). Совершенно любительская, смутная, но человечески симпатичная фотография Бориса на его хуторе. Дом был куплен (в середине 80-х), но еще раньше Боря с женой Тамарой в этой деревне лето проводили у Лены Пудовкиной, поэта. Она говорит, что «весь» питерский андеграунд у них в деревне перебывал. Но теперь туда добраться трудно, т. к. это сама граница – метрах в 200-х за речкой начинается Латвия.
Памяти Бориса Рохлина
Андрей Арьев
Почти
как прежде
В начале шестидесятых на филфаке Ленинградского университета, где мы учились на одном курсе, господствовала поэзия, как, впрочем, и повсюду среди литературной молодёжи. Слагали стихи и грядущие оригинальные мастера прозаического жанра — Сергей Довлатов, Самуил Лурье, Фёдор Чирсков... Стихописание — хорошая школа для литератора. И только Боря Рохлин взялся за рассказы — жаль тратить время, «как все», на стихи. Не писать не означает — не читать. Помню его с книжечкой переводов Бенедикта Лившица, с его антологией 1934 года «От романтиков до сюрреалистов». Стиховой гул проницает всю прозу Бориса Рохлина — от исходных опытов до итоговой публикации. Это поразительно: напечатанное в 2019 году его эссе о сборнике рассказов Владимира Батшева целиком держится на стихотворных цитатах и аллюзиях. В том числе из «Романтиков и сюрреалистов», из «Конца империи» Альбера Самена: «Идиллия меж роз у вод синей сапфира…»
До сих пор ничего подобного в критических суждениях, посвящённых прозе, не встречал. Вообще сюрреалистический сдвиг — заметная составляющая литературной манеры Бориса Рохлина. Скорее в ее языковом воплощении, чем в сюжетном. Сюрреалистическое языкотворчество поглощает сюжет, делает его неординарным. Слово в этой прозе буквально обволакивает реальность, парит над ней, что и есть сюрреализм в прямом, то есть этимологическом, значении слова. Реальность, оставаясь реальностью, погружается в сберегающий ее культурный раствор. В излюбленных прозаиком заурядных сюжетах с заурядными персонажами слышно культурное эхо, они пронизаны высокими отзвуками, богаты поэтическими соответствиями. Эта проза не может не быть лиричной. Но ее лирика приглушена, всегда готова уступить место авторской иронии. Лирика под сурдинку, как аккомпанемент. И в чужих повествованиях он любил «лирические отклонения от прямого пути прозы. Но не в сторону, а к горизонту». Его слова. Изображая обыденную жизнь, Борис Рохлин стремится прежде всего не впасть в бытописательство.
Рассказы Борис стал писать, не задумываясь об их публикации. Во всяком случае, получив кислые рецензии на первые прозаические опыты, разосланные по журналам, дальнейшие попытки напечататься в официальных изданиях прекращает, разве что появляется изредка на заседаниях ЛИТО И. Меттера, В. Бакинского, Д. Дара и др. В целом Рохлин всегда предпочитал приватную литературную беседу – публичной и распространял свои тексты преимущественно среди друзей. Индивидуальная литературная манера сложилась у него к концу1960-х и самые ранние из рассказов, которые он много позже допустил в печать, датируются 1968 годом.
В 1970-е, оказавшись силою вещей в «андеграунде», Борис Рохлин понемногу начинает осваивать самиздат («Часы»), принимает участие в создании (вместе с Кириллом Бутыриным и Сергеем Стратановским) журнала «Обводный канал»(1981). Но и тут особой активности не проявляет. Точно так же, посещая собрания первого в Ленинграде независимого литературного «Клуба-81», членом его не становится. Несколько утрированно, но все же достоверно, образ прозаика можно представить по диалогу И. Меттера и С. Довлатова, простодушно записанному самим же Рохлиным: «Однажды Сергей, собираясь на семинар к И. М. Меттеру, спросил меня: “Ты идёшь?” “Да нет, не пойду”. “А зря, Меттер о тебе спрашивал. Почему, говорит, Рохлин не ходит. Он всегда несёт такую жеребятину! А без него скучно”».
Первой и единственной публикацией Бориса Рохлина в советское время оказался рассказ «Танька». То есть какое тут «советское» — напечатан в эмигрантском журнале «Грани» (1981) без ведома автора.
Героиня «Таньки» — гулящая девица с Дровяной улицы питерской Коломны. Жизнь, вечера и ночи, ее «ничему не научили». И все равно «в утро следующего дня солнце у Калинкина моста взошло, как ему и полагалось, около семи, это был обычный шар цвета неспелой дыни. Он немного побыл в неподвижности, довольно высоко над домом, где жила Танька, а потом скатился в улицу Дровяную, распространил по всей улице светлую раннюю прохладу, на тоненьких ножках через окно вошёл в Танькину комнату и прогнал темноту последнего ночного часа».
Рассказ написан в 1968 м и содержательно освещён прощальной улыбкой Джульетты Мазины из финальной сцены «Ночей Кабирии» Федерико Феллини, любимого фильма, без памяти о котором Борису Рохлину в утверждении его сострадательных взглядов на человеческую природу обойтись было бы трудно. Да и с какой стати?
Если говорить о биографии писателя, о его увлечениях, то они менее разнообразны и занимательны, чем список привлекавших его книг. Человека он прежде всего искал в литературе, в живописи, в кино. Потому что в них он запечатлён и освещён выразительнее, чем в жизни, — во всей своей красоте и наготе.
Рассказы Борис Рохлин не писал, он в них погружался, дождавшись подходящего душевного состояния. Таких дней за всю жизнь набралось не так уж и много. Самый продолжительный явил себя в рассказе «У стен Малапаги», сплошь насыщенном интригующими недосказанностями, на которых его сюжет и держится. Как и вся в целом эстетика автора. Да и его миропонимание, не позволяющее договаривать до конца вещи самые сокровенные, ради которых подчас сочинение и затевалось. Так появившийся и тут же исчезнувший персонаж в рассказе «У стен Малапаги», «китаист, талантливый юноша, писал в жанре бицзи, но недолго, по просьбе Родины пал смертью храбрых на поле брани», кто он? Обучавшийся китайскому там же, где Борис обучался шведскому, студентом ушедший на фронт, это отец автора, погибший в день рождения сына 22 января 1942 года. Грубо было бы выставлять напоказ в художественном повествовании личную драму и рассуждать о символике рождения в трагедии, но и предавать ее забвению тоже не приходилось. Ибо в ней та равная глубине высота, с которой художнику только и возможно воспринимать сущее.
Есть в рассказе загадки и подоступнее. В первую очередь — заглавие. Конечно, оно из кино, копирует «По ту сторону решётки» Рене Клемана, в отечественном прокате — «У стен Малапаги». В Генуе не были, тем более смотрели с увлечением: Жан Габен, Иза Миранда… Но главное — антураж: заурядная тюрьма с богатым прошлым. Содержится в ней кто-то сейчас, нет ли — неясно. Но кандидаты всегда найдутся: судьба, любовь, преступление, нищета — всё ведёт к ее воротам. Доминирует сам путь, полный спонтанных откровений. Неореалистический сероватый пейзаж, охваченный разгорающимся пламенем. Пейзаж беды, надвигающейся ниоткуда. Всё это у Бориса Рохлина долговечно. Почти эпос — в локальном измерении. Мёртвая зыбь. Бытие, пронизанное литературой, литература, пронизанная бытием, — в сплошном потоке сознания. Иначе и не обозначишь. Разве что этого культурного сознания «истоком»:
«Пейзаж окраины, запустение, робкое цветение сорных трав, обрывок мелодии, забытая строфа, несколько не сказанных слов, смутная тревога, ощущение вины. Если нет затмения, то день настанет. Вокзалы, болезни, страхи и подозрения, кто виноват и что делать, пароход белый-беленький, черный дым над трубой, гитарист и поклонник умер от рака и, как всегда, в расцвете сил и ничем не болел. Подходили солдаты и матросы, год шестьдесят третий, Нонка танцует и спит с родным папашей, молода, любви не знала, но и жалко отказать, юбка зелёная, в меленькую, меленькую клетку и свитерок беленький, а какая грудь! Пучится, топорщится, вздымается, как купола Петра и Павла. О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнаванья. А что получилось? Птичка польку танцевала».
В приневской столице Борис Рохлин искал — и находил — жизнь провинциальную. Не то чтоб она ему нравилась. Просто в ней люди казались очищенными от столичного лоска, неизбывно писателя отвращавшего. Среди дворцов он помнил о задворках.
В этом отношении мне кажутся символичными обстоятельства, при которых Борис Рохлин пришёл к осознанию своей жизни как литературного пути. Окончив шведское отделение филфака, он от престижной в глазах студентов работы с иностранцами отстранился, нашёл место переводчика в патентном бюро. Находилось оно на Дворцовой площади, но — в подвале. Работа для молодого человека вроде бы унылая да еще и ограниченная жёсткими часами присутствия. Но Борис заполнил ее занятиями, ему любезными: библиографические карточки он использовал для начертания на них своих художественных замыслов, не подозревая, что укатил колесо из набоковский лаборатории. Хотя бы отчасти, но эти упражнения отразились на общей манере его письма — лапидарной, полной очевидных недоговорённостей и дискретных, себе довлеющих ассоциаций.
Эта манера очень подошла для выражения душевного состояния героев Рохлина, их эмоций, сделалась в конце концов сугубо авторской, знаком его стиля. Полюбившаяся как приём, она трансформировалась в органичный способ передачи собственных ощущений. Борис Рохлин настолько сжился с воображённым им миром «маленьких людей», что и писать начал, руководствуясь повадкой главного их страдальца, гоголевского Акакия Акакиевича, который «имел обыкновение совсем не оканчивать фразы <…>, думая, что всё уже выговорил». Подобная речь сама по себе стала задушевной темой прозы Рохлина. Очутившись ненароком в Берлине, писатель воспроизводил ее в немецкой столице с такой же увлечённостью, как Гоголь русскую речь в Риме.
Подвал влечёт к путешествиям, подразумевающим одиночество, какие бы спутники и попутчики ни оказались рядом — за одним столом, в одном купе, в соблазнительно запущенном дворике… Когда из филологов Боря Рохлин подался в инженеры одной из природоохранных организаций, я не удивился — всë поближе к природе. Или – подальше от людей.
В это время уже прочитан «Уолден». Напечатанный во всеми ценимой и не слишком доступной в ту пору серии «Литературные памятники» «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо (М.: Издательство Академии наук СССР, 1962) был добыт у перекупщиков и поставлен на полку навсегда. Борины книги точно имели свою судьбу.
Пишу об этом, чтобы сказать о важной житейской черте во всех других отношениях совершенно бескорыстного человека. Боря обращался с приобретёнными фолиантами сверхбережно. Получить хотя бы на недолгое время из его библиотеки какое-нибудь нужное тебе издание означало увидеть на его лице почти не скрываемую мучительную гримасу — впору было самому опознать себя мучителем. Ситуация какому-то толкованию подлежащая. Борис настолько любовно был увлечён книжками, что любое к ним чужое прикосновение — следы сгиба на корешке, любая оставленная ненароком пометка и т. п. — заставляло его едва ли не страдать. Литературные герои представлялись ему живее иных знакомых и населяли страницы его прозы именно как реальные люди. Так сквозные персонажи рассказа «У стен Малапаги» — Шельмуфский, Мой брат-граф и Шармант — явились из книги Кристиана Рейтера «Шельмуфский» (издана в тех же «Лит. памятниках»).
«Жить одному» и «Путешествовать, путешествовать, путешествовать» — названия этих двух ранних рассказов Бориса Рохлина вполне выражают его житейскую, ставшую творческой, философию. Процитируем из последнего: «Спрятаться. Забыться. Убежать к морю. Броситься в песок. Возводить из него плотины и средневековые замки. Одуреть от солнца. А вечером пить. Пиво или вино. Чтобы сделать боль сладкой, а приступы отчаяния лёгкими и невесомыми, как морская пена».
Про пиво и вино не ради красного словца или разухабистости сказано. Любимая цитата из Хемингуэя была: «Стоит только немного выпить и все становится почти как прежде». «И вино всех расцветок, и всех водок сорта», можно сказать, «вечные спутники» героев этой прозы. Ниточки в этом направлении от персонажей к автору тянутся. И дотягивается. Но не до его мечты: «Увидеть мир так, как до этого не видел никто». В предвкушении встречи с прозой обетованной прошла жизнь.
Итог неосязаемой «литературной деятельности» Бориса Рохлина в советское время подведён в его сборнике «Превратные рассказы» (1995). По нему можно было наконец разглядеть оригинальные черты его дарования. В духе своих неприкаянных героев Рохлин к этому времени жил уже в Берлине, без особенной цели задержавшись в нем на пути из Парижа в Ленинград в 1990 м.
В Берлине Борис на предложение подработать в одной из библиотек откликнулся живо: на что существовать дома, было мало понятно, а немецкий, не говоря уж о шведском, он знал. Так и остался подрабатывать — на четверть века. В Петербург наведывался постоянно, издал здесь еще одну книгу «У стен Малапаги» (2009), более или менее регулярно печатался в «Звезде»… В Берлине, если с кем и общался, так с похожей на питерскую богемой — из круга свободных берлинских живописцев, практически не замечаемый литературной критикой как на родине, так и в Германии. Его берлинская жизнь не была эмиграцией, но чаемым уединением. Недаром безусловным его героем я бы назвал Диогена, этого гения уединения.
Герои «Превратных рассказов» — это «Кандиды» и «простодушные» 1960—1970 х годов, отбывшие в бессрочный отпуск с каторжной службы по насаждению рая на земле. Места их обитания — ленинградский сумрачный двор, черная, притворившаяся парадной, лестница, заставленная рухлядью мансарда… Здесь, по совести и без труда, они «возделывают свой сад» — вместе с котами и собаками, у Рохлина ни в чем не уступающими им в чувствительности. Мало кто из советских граждан так был чужд «строительству коммунизма на Земле и в космосе, где до сих пор даже воздуха обыкновенного нет», как герои Рохлина.
Это определяющая черта, гражданский сюжет прозы Рохлина советской поры, объясняющий ее «превратность»: балагурство и эфемерная риторика персонажей говорят о человеческой драме, в то время как фанфары и пафос «морального кодекса строителей коммунизма» свидетельствуют лишь о лицемерии.
Утопизма в мышлении персонажей Рохлина предостаточно. Только утопии эти рождены не социальным прожектёрством, а изгойством как следствием этого прожектёрства. Ленивые скептики, вольтерьянцы из распивочной, персонажи Бориса Рохлина исповедуют какой-то оптимистический фатализм. «Замешанный в круговорот жизни и смерти, я бессилен что-либо изменить и счастлив», — утверждает один из них. Иллюзия, на которой покоится их нравственное чувство, их коллективное бессознательное едины: мир изменяется к худшему, зато мы остаёмся такими же, как прежде, — лирическими недоучками, краснобаями, блаженными пьяницами, расслабленным дурачьём, не отличающим свадеб от похорон, — всюду застолье. С чего и начинаются их истории, как, например, в «Повести о пропаже невинности»: «Однажды Гульдяев, бывши на свадьбе по случаю женитьбы старого друга Егорки Вахрушева, выпал с балкона пятого этажа на клумбу с гиацинтами и некоторым количеством красного кирпича, окаймлявшего это явление городского ландшафта. После падения с ним, слава богу, не произошло ничего физически и телесно дурного…» Так сказать, «не разбился, а рассмеялся». И один лишь автор знает потихоньку: всякий его бедолага, всякий расслабленный существователь «улыбаясь, может быть, и не улыбается, а плачет».
И на самом деле, что` изменилось? Да, иных мы не досчитались на пути к свободе. Но и в том правда, что сама свобода путей к человеку торить не спешит. Как и полвека назад, теснимся у стен Малапаги — по ту сторону решётки. Только где эта Малапага? Может быть, нет ее и никогда не было? Как никогда не бывал автор в Сомали, даром что его последняя книга называется «Такси до Могадишо» — по одноименному рассказу. Сплошное кино? Или навязанное кудесником-режиссёром — это и есть жизнь? Абсурдно, не верю, да так оно и получается. Не зря ведь из ларчика прозы Бориса Рохлина вавилонами рассыпаются литературные аллюзии, парафразы, подтексты. Он вообще самый центонный отечественный прозаик из всех, мною читанных. Наития в этой области делают его стилистику более экспрессивной, добавляют ей поэтической суггестивности: «…плюнуть на всë, да и сплясать на собственных костях на сопках маньчжурии, трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне».
Урок отменный: воздень очи горе´ с книгами да берись за перо — и всё станет почти как прежде.
Тайна прозы Бориса Рохлина нетривиальна, она замешана на русском юродстве и — более широко — на традициях посрамления «мудрости мудрых», известной и по христианской, и по древнегреческой философии. Венчающий последний сборник рассказ-эссе «Сомнение Диогена» подводит итоги более чем двухтысячелетнего «неудачного эксперимента» по установлению царства разума: «…рассвет так и не наступил. Иногда светало, но так и не рассвело. Если бы Диоген начал свой поиск сегодня, результат был бы тот же. Человека по-прежнему нет, и Троя всегда в пламени».
В питерском ли подвале, в афинской ли бочке — судьба человека превратна, и это единственное твёрдое суждение, которое о ней можно составить. Точнее говоря — единственное экзистенциальное суждение, связующее эстетику Рохлина с жизнью. С той самой жизнью, в реальном смысле которой писатель усомнился: «…каждый доверяет <…> земле, женщине, философии <…>, а я доверяю частицам, междометиям, вводным словам…»
Превратность подобного мироощущения заключается в том, что автору хочется одновременно не предавать, быть верным нашей ничтожной действительности, не сочинять о ней «занимательных историй» и в ту же минуту говорить о ней, закрыв глаза, руководствуясь воображением и еще раз воображением.
Декларировал — и исповедовал — Рохлин слегка иное: принцип остранённой обращённости к «чужой жизни», к ее заурядной бытовой основе. Сюжетно он у него и доминирует; но едва быт начинает в его рассказах довлеть себе, как его теснят визионерски воспаряющие и воспаляющие стенания, моления и прочие «междометия». Как, например, в «Страстях по Пьеру»: «…многие муки и терзания принял ты и чах, и внимал поношениям, и был оплёван, и стал ты, Пьер, ничто, точно бы вновь погрузился в недвижимую вечность…» В своей прозе Рохлин смотрит на труху и мусор бытия, на мерзкую плоть, а увидеть мечтает ангелов. Подобное духовидчество запечатлено в несравненно более известной, чем все произведения Бориса Рохлина, повести Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки». «Превратные рассказы» писались в таком ключе как до, так и после появления этого шедевра и вне контакта с его автором.
Никакое творчество не обходится без иллюзии, без «возвышающего обмана». Скажем проще: без самообмана. Утверждающие эстетику Рохлина иллюзии замешены на общеевропейских просветительских постулатах, усугублённых комплексом вины перед «маленьким человеком». У Рохлина, как и в прозе иных авторов «ленинградской школы» 1960-х, этот субъект наделяется экзистенциальными качествами; из зоны традиционного для русской литературы сочувственного авторского внимания переводится в лирическую область авторской рефлексии, становится «антигероем», солью ставшего «своим» бытия.
Парадокс в том, что воспроизводящий «обыденное сознание», «редуцированную душевную жизнь» героев Рохлин склонен ударяться в такую узорчатую замысловатость «естественной» речи, от которой его гипотетического «простого читателя» только оторопь возьмёт. Мало кто, кроме убеждённых сторонников стилистики Андрея Платонова, каковым с младых литературных ногтей Боря и был, в состоянии оценить иные его словесные порывы. Да и те обвинят его во «вторичности»: «Товарищ Загуменных <…> лично потёр ему спину большой мочалкой для очистки его телесного вида от накипи прошлой ошибочной жизни»…
Во втором сборнике Рохлина «У стен Малапаги» платоновский, клубящийся со времён Просвещения пафос существенно приглушён минимализмом и дискретностью повествовательной манеры — в духе Л. Добычина. В этом сборнике рассказы и эссе, в него включённые, написаны «на цыпочках слов», на языке, еще более усугубляющем прежнюю художественную речь автора. Былой орнаментализм трансформировался в органичный способ передачи собственных ощущений. То, что составляло предмет размышления, казалось счастливо найденной темой («маленький человек», «Просвещение» и т. п.), явило себя в большей степени подспорьем, чем сутью довлеющего себе переживания.
Жизнь скучна, но писать о ней интересно. Этот душевный импульс инвестирован в сами сюжеты рассказов Бориса Рохлина. Ярче всего в них выражена авторская воля к стилю, разрешена задача, издавна востребованная лирическим замыслом: найти слог, «чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку» и прочие мимолётные прелести нашей быстротекущей, никакими науками не продлеваемой жизни.
Речь тут не о легкомыслии, а о положении человека, о доступном ему окоёме обитания. У Рохлина даже император Веспасиан всего лишь «один римский гражданин». Какое бы место под солнцем его персонаж ни занимал — он прежде всего «маленький человек», ненароком резвящийся на берегах Леты. Пока еще «по эту сторону». Существенна лишь его потаённая жизнь, удаляющая его от этих берегов в прошлое, под стены Малапаги. Жизнь опознается памятью, занавешивается чередой дорогих сердцу картинок.
Ложна ли эта память — значения не имеет. Имеет значение лишь то, что всякий человек — «маленький человек», расположившийся у своего ручейка, у озерка, у речки Леты…
На титульном листе «Такси до Могадишо», последней книги Бориса Рохлина, изданной «Литературным европейцем» в 2017 году во Франкфурте-на-Майне, надписано автором: «„Был такой Боря“. Был и остался».
Адреса, по которому Борис Борисович Рохлин отправился 13 сентября 2020 года в последнее путешествие, писатель не оставил.
Когда-то в начале 1960-х нами — и Борисом Рохлиным не в последнюю очередь — были заново и с упоением открыты Андрей Платонов и Л. Добычин.
Мне кажется: лет через пятнадцать-двадцать новому поколению точно так же явится проза Бориса Рохлина. И всё у нас станет «почти как прежде»: литература пребудет литературой.
Журнал "Звезда" №12 за 2020 год