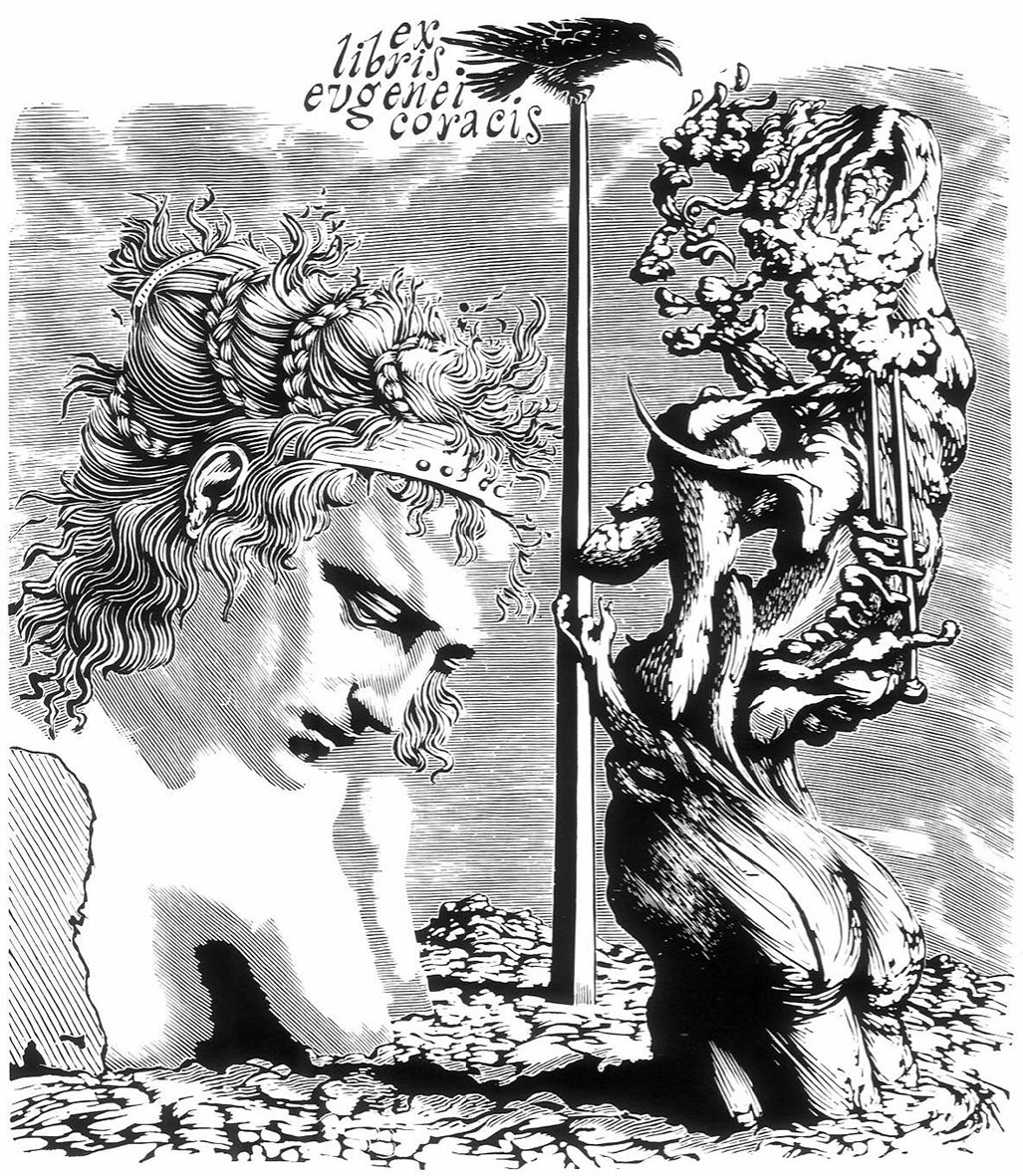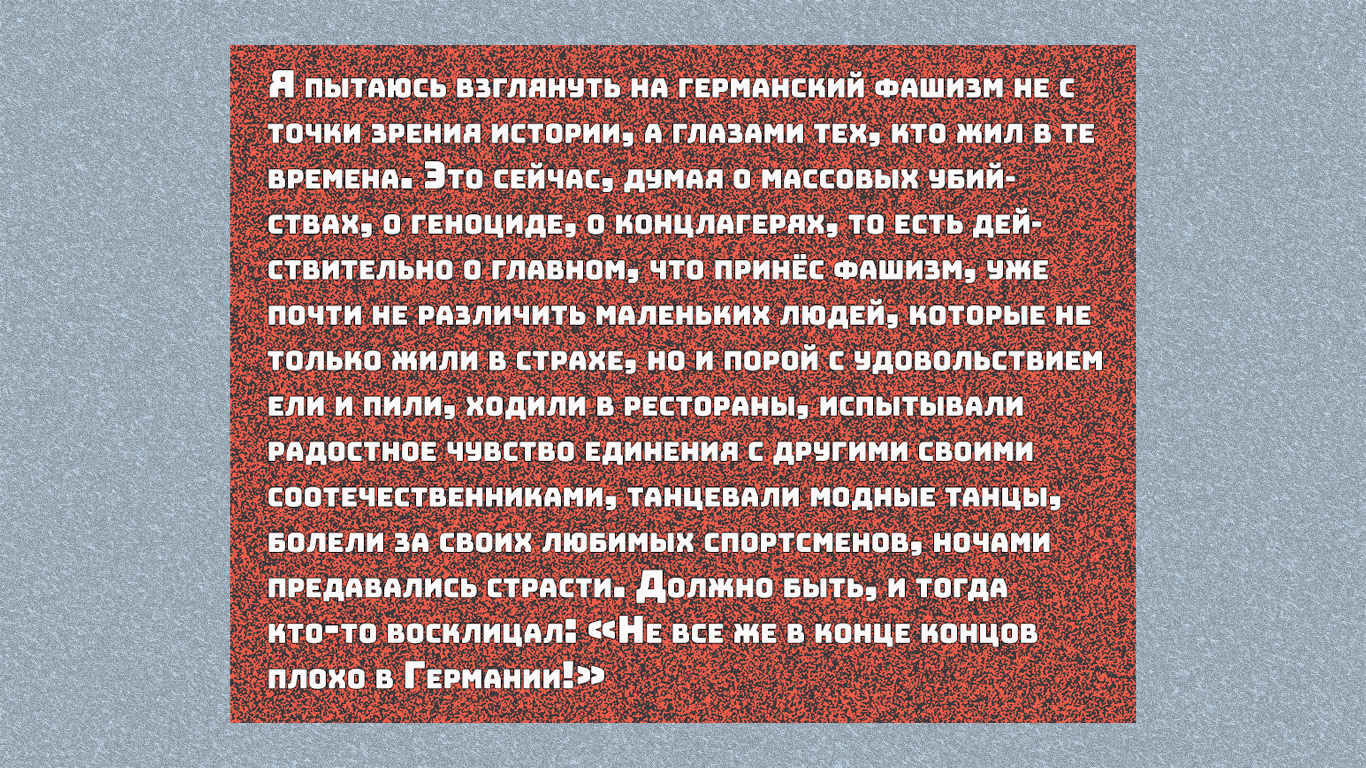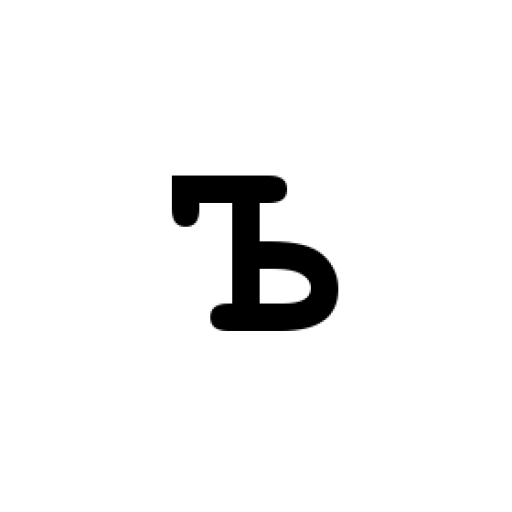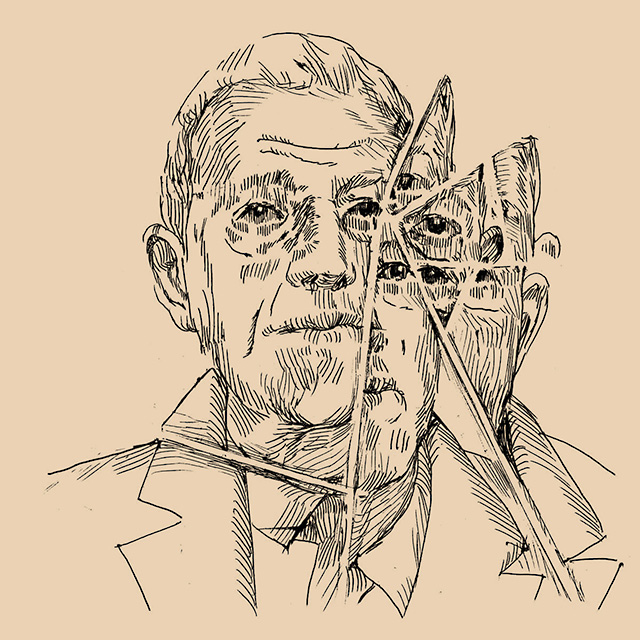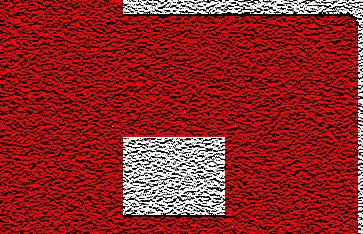МОЯ ЖИЗНЬ

Все, что я расскажу в этих автобиографических заметках, — прежде всего правда, хотя и не вся правда, но и ничего, кроме правды. Еще точнее будет сказать, что здесь — правда в том виде, как воспринимал ее я — т. е. определенный человек, имеющий данные ему границы опыта, разума и интуиции. Это относится к любой автобиографии, но я хочу это тем более оговорить, что почти вся жизнь моя казалась мне грезой, вся она проходила в некоем тумане, похожем на очень, правда, прозрачную, родильную плевру, которой я, казалось мне, был окутан. (Или, м. б., напротив — весь мир казался мне окутанным таким образом, а я находился как бы за прозрачной его гранью.) Затрудняюсь сказать, свойственно ли такое ощущение мне одному, или оно общий удел всех людей, или по меньшей мере людей, занимающихся художественным творчеством, или, наконец, людей, живших в тех условиях, в которых жил я. Не знаю. Но так или иначе, я ощущал все окружающее, как жгуче-любопытную, вязкую, не совсем реальную среду, в которой я временно действую и мыслю, а затем… что затем? В юности мне казалось самым ясным образом, что вскоре я прорву эту родильную плевру, и все станет подлинным, что вся прожитая жизнь — черновик, набросок к чему-то более высокому, совершенному и уже взаправдашнему. Теперь же, когда выяснилось, что черновик это или не черновик — но это и есть все, ты начинаешь с пристальным интересом изучать это все — не потому, что ты оцениваешь, смиряясь, свою жизнь выше, чем раньше, а потому, что она — единственная.
В этом и цель этих записок — изучение, осмысление собственной, плохо изученной ранее жизни. Могут ли такие записки вообще иметь цель? Могут ли они принести пользу? Я сомневаюсь в этом. Какую имели цель и принесли пользу "Поэзия и правда" Гете, «Исповедь» Руссо, «Признания» Гейне, "Былое и думы" Герцена, "История моего современника" Короленко? К тому же все эти произведения, написанные искусно и довольно искренне, — еще не искусство, а полуфабрикат искусства. (Эту мысль надо развить.)
Они были интересны потому, что интересны были нам их авторы, выражавшие свое время наиболее ярко, почему они и были для нас интересны. Самое реальное время, прошедшее и не оставившее по себе письменных памятников, становится нереальным, перестает существовать. В этом — высшая реальность литературы. Литература — это та иголочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отражающую идущую рядом мелодию. Если эту иголочку на минуту снять, то музыка не прекратится, она останется той же реальностью, она будет существовать, звуковые волны разной длины будут по-прежнему вырастать и сокращаться, но на пленке окажется тихий пробел, и музыка канет в вечность, — в великую яму, подобную той, в которую канули бесчисленные времена, не имевшие письменности.
Более того — не только времена, но и пространства. Ибо страны или области, реально существующие на карте и по сие время, но записанные только в конституциях и законоположениях, а не в произведениях литературы, являются как бы не существовавшими для человечества. С этой точки зрения Древняя Греция — гораздо большая реальность, чем Греция современная; Донская область, описанная Шолоховым в его романе, в сто раз реальнее, чем не менее реальный и в сто раз больший по размерам Красноярский край, а Смоленская область, благодаря поэзии Твардовского, — в сто раз реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообще-то эта последняя ничуть не хуже первой.
Так как нынешнее время необычайно осложнено потрясающим изобилием вещей и понятий — изобилием, не сравнимым ни с какой эпохой, то отражение этого времени становится для одного человека задачей непосильной. Золя еще недавно сумел — хуже или лучше — отразить в труде своей жизни Францию трех десятилетий, во всем многообразии стоявших перед ней проблем. Я тоже пытаюсь и буду пытаться это делать, но это необычайно трудно. Ведь мы, столь же сыновья, сколь и невольники своей исторической поры, лишены возможности оценить ее во всем ее многообразии, т. е. в связи с прошлым, так как оно быстро и безвозвратно ушло, и с будущим — так как оно никогда еще не было столь неясно. По сути дела самыми большими реалистами оказались авторы фантастических романов. Мне представляется, что мир наш живет в атмосфере романов Уэллса — писателя великого и не вполне оцененного. Но фантастическая пора, какую мы переживаем, перегружена таким обилием подробностей человеческого быта, переход в новую эру столь неравномерен в разных местностях и даже в соседних домах, что художник поневоле останавливается в отчаянии перед задачей отражения действительности. Помимо того действительность переходных эпох вовсе не желает быть объективно познанной и отраженной. Она сопротивляется объективному познанию, она не хочет и страшится его. Она диктует художнику свою волю быть прикрашенной и подлакированной. Она как бы пугается быть изображенной правдиво, не без оснований полагая, что увидит Вия с железными веками и встретится с его взглядом. Она боится частного и стремится к общему. Иначе говоря, она оказывается ярым противником искусства. Каждый художник, т. о., не может не быть в разладе с ней. Этот разлад не может не углубляться с каждым часом. Конфликт может кончиться только нравственной смертью художника, т. е. полным или частичным его отказом от своего максимума — либо его физической смертью.
Отказ от максимума равен отказу от искусства.
При этих условиях художник приходит к мысли об «исповеди», или, говоря на современный лад, к мысли об автобиографических заметках. Если разобраться в окружающем его бурно изменяющемся мире и отразить его так трудно, то не попробовать ли разобраться в своем маленьком мирке, чтобы, отразив его по мере сил, охватить и окружающее. Это — способ несовершенный, верно. Капля морская состоит из той же материи и мыслит так же, как и океан. Но требуется немало воображения, чтобы по этой капле воссоздать огромную толщу океана. Но поэт, может быть, не простая капля? Он надеется на это. И он идет на создание полуфабриката, не являющегося еще искусством, ради правды. Шекспир, Толстой, Данте, Пушкин — это искусство. Он отказывается от жадного стремления стать ими — ради правды. Он готов сойти на нет, стать удобрением для будущих Шекспиров и Толстых ради правды.
I
Каждому молодому человеку жизнь его кажется вполне заурядной как потому, что он все время находится в предвкушении и ожидании чудес, так и потому, что даже если с ним и случаются чудеса, то он этого не сознает, ибо все, что с ним случается, поскольку это случается именно с ним, человеком, которого сам он так хорошо знает (вернее, думает, что знает) и к внутреннему миру которого привык, не имея еще возможности и способности поглядеть на себя со стороны, кажется ему обыкновенным и рядовым. Такими же заурядными, рядовыми кажутся ему окружающие люди, главным образом родные и родственники, так как они привычны, представляются ему существовавшими от века, предопределенными заранее, тем более, что он еще не способен их сравнивать с другими людьми.
Отец мой был человеком незаурядным и замечательным.
(1959 г.)
МИФЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ
Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Дорога шла в гору. Старик еле тащился. Он устал и был голоден, вполголоса бранился самыми уродливыми ругательствами полуострова, какие только слышал за свою долгую жизнь. Поистине он испытывал облегчение и удовольствие, произнося их на жаргоне невольников и мелочных торговцев. Его уста, привыкшие петь перед царями и на многолюдных ристалищах или шумных торжищах торжественные песни, приводившие в трепет и исторгавшие слезы, как будто отдыхали на площадных выражениях боли и ненависти, облеченных в необыкновенно бесстыдные, но не лишенные изощренной наблюдательности образы.
Хотя брань была на его устах, но в голове всё время проносились возвышенные и торжественные картины и теснились красивые и громкие слова богослужебных песен, старинных од и легенд. Эти образы и слова всё время, нередко и во сне, клубились у него внутри, иногда потрясая его и вызывая слезы на его глаза. В одиночестве своего жилья он повторял их вслух, варьируя и находя новые, более сильные выражения. Иногда ему так нравилось то, что он пел своим надтреснутым, но еще сильным голосом, что он плакал от гордости за свой дар, данный ему бессмертными богами, потом долго кашлял, сморкался и проклинал свою старость.
В последние годы он жил очень одиноко. Он стал ненавидеть общество людей, шум, ими производимый, причинял ему боль в ушах. Но нужда в зерне, мясе и вине выгоняла его из хижины на побережье и заставляла идти на пиры к царям, на храмовые праздники и сборища царских дружин. Он пел им свои песни, бряцая на лире. Его глаза, устремленные вдаль, слезились, но в наиболее выигрышных местах своих песнопений голос его крепчал, лира громко звенела, седая редкая борода топорщилась. Нет, более молодые рапсоды не могли с ним сравниться и понимали это. Они думали, что ему помогают темные силы, Ор, покровитель человеконенавистников, и Луна, покровительница ночи. Старик мешал им, его пение и вариации старых песнопений вызывали их зависть. Они заискивали перед ним. Приносили иногда в его хижину лепешки и вино и просили учить их. Он никак не мог им объяснить, что ему нечему их учить, что всё его умение от него не зависит, что его вдохновение — божий дар. Они не верили ему и сердились. Он отбивал у них слушателей. Народ, забывший его подлинное имя, звал его Стариком, и, видя его, кланялся ему, и кричал на праздниках:
— Старика сюда! Пусть поет Старик!
Если бы ноги его были покрепче, он бы жил хорошо. На голос он не жаловался, и голова служила ему отлично. Память у него была удивительная, пугавшая его самого. Он вспоминал изречения, произнесенные кем-то лет 70 назад, вдруг ему со всей точностью представлялась девчонка, виденная пятьдесят лет назад у подножья городской стены, поворот ее стройного тела и жест ее руки. В его лысой небольшой голове гнездились старые песни, множество слов и картин, и он, глядя в воды заливчика, возле которого жил, ощупывал свою голову и удивлялся ее малым размерам.
Жена его умерла очень давно, и рабыня, оставшаяся в их доме, спала с ним, а утром плела сети для рыбаков побережья. Но и она умерла давно. Иногда его посещала нищенка Ая, не умевшая говорить, хотя ей было уже лет двадцать, и вообще ничего не умевшая. Люди считали ее святой, она иногда ревела, как осел, ее глаза закатывались, и она падала оземь. Все говорили, что она разговаривает с богами и отмечена ими. Приходя к Старику, она снимала с себя грязный мешок и делала то единственное, что умела. Он играл ей потом на лире и пел, и она обнимала его колени и падала перед ним ниц, как перед богом. Они ели лепешки из зерна, которое он разбивал каменным пестом в бронзовой посудине, и пили кислое вино. Потом она исчезала. Когда же он начинал тосковать о ней, о ее сильно пахнущем маленьком нечистом теле, она появлялась. Он удивлялся ее далекому чутью и сложил песню о ней, которая начиналась так: "Где бы ты ни была, на земле или на небе, на траве луга или на берегу реки, ты всегда знаешь, когда я жду тебя. Ты приходишь тогда, когда я жду тебя. Когда я не жду тебя, тебя нет. Ты как мысль моя. Человек ли ты?"
В последнее время Старик купил мальчика. Это был маленький смуглый раб, захваченный среди других царем Ниодаты у соседнего царя. Он говорил на языке, близком языку Старика, но с другим произношением гласных. Он слышал о Старике раньше — Старик ходил по всему полуострову, цари покровительствовали ему. Он вначале не поверил, что попал в рабы к Старому Певцу, тем более, что старик был вздорный и слабый и ругался вполголоса, а однажды к нему пришла немая девушка, и мальчик считал, что не может быть, чтобы старый певец, гордость полуострова, был как все другие старики. Мальчик сам пел и сочинял гимны. Но однажды, выйдя со Стариком в дорогу, он пришел с ним в колонию на побережье, и это было в праздник (неразб.) виноградной лозы, Газелы. И все ходили пьяные, и жрицы Газелы, голые, бегали по городу, в венках из виноградных листьев, облитые вином и блюющие на перекрестках. Этот культ был полузапрещен недобрым царем Ниодаты и жрецами верховного бога Атума. Женщины бунтовали против запрета, лишавшего их старинного права: в этот день пить без меры и отдаваться любому мужчине, кроме чужеземцев: за любовь с чужеземцами женщину закапывали в родную землю живой, чтобы она поняла, что делает родная земля с изменившими ей.
(К РОМАНУ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ")
1 мая 1941 (или 1938?)
Егор Кузьмич вдруг решил пойти на парад. "Хоть раз одним глазком поглядеть". Наденька нажала на мужа, и он достал ему билет, что было непростым делом: он сказал в МК, что старик — отец жены. Старик немного устал, демонстрацию смотреть не стал, вышел вместе с Надей по набережной к дому правительства и здесь, в Надиной квартире, уселся в кресло. Но он не спал. Он сидел и думал, его светлые глазки были устремлены вдаль, а тонкогубый рот кривился в улыбке под редкими усами.
Приготовив стол — Карпухин кого-то пригласил обедать, — Надя села возле Егора Кузьмича и, взглянув на его странно улыбающееся и какое-то просветленное и довольное лицо, спросила: "Что, понравилось?" Его улыбка стала еще светлее и блаженней, и он поманил к себе Наденьку пальцем, и сказал ей на ухо одно короткое слово, которое она вначале не разобрала.
— Что? — спросила она, недоумевая. Он сказал так же шепотом, но яснее:
— Царь.
Теперь она расслышала, но ничего не поняла.
— Как? — спросила она.
— Царь, — повторил он твердо и торжествующе и тихо-тихо, как-то удовлетворенно рассмеялся.
(Во время парада он находился близко к Мавзолею. Сталин появился внизу. Он шел позади трибун, один, с утиной хозяйской перевалочкой, — в белом костюме и черных хромовых сапожках. Позади, на почтительном расстоянии, шли Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев и еще люди, незнакомые. Сталин исчез за Мавзолеем, затем появился наверху, раздались аплодисменты. Он подошел к краю и помахал рукой, странно перебирая пальцами, затем перешел к другому краю и помахал рукой.
Егор Кузьмич, вначале настроенный чуть насмешливо, стал серьезен и торжествен. Раздался бой часов на Спасской башне, и в то же мгновение оттуда выехал на коне маршал Тимошенко. Крики "ура!" раздались по площади. Сталин стоял и со спокойной свирепостью посматривал то вправо, то влево, единственный человек, чувствовавший себя независимо и спокойно. Вскоре заморосил дождик, и Егор Кузьмич увидел, как два генерала — два! поднесли Сталину серый плащ и надели на него. Мимо трибун проходили грозные четырехугольники военных академий, затем войска — зеленый квадрат пограничников, матросский отряд в белых перчатках с штыками, красные пехотинцы, черные — техники.
Надя между тем, привыкшая к этому зрелищу, негромко болтала с соседкой — женой наркома лесной промышленности и народной артисткой Талановой о школьных делах детей и о предстоящих поездках на курорт. Но Егор Кузьмич не слышал ничего. Он смотрел на Сталина неотрывно. Домой он шел задумчивый и тихий.)
Надя воскликнула:
— Правильно, Егор Кузьмич! Сразу видать умного человека! И я так моему дураку говорю. Царь — и все тут! Царь и есть! У, чтоб ему.
Егор Кузьмич приложил тонкие старческие пальцы к губам:
— Не шуми, Наденка… Царь России нужен. Без царя на Руси плохо. Конечно, жалко, что не русский. А ежели подумать, то и наши исконные цари больше все немцы да немкини.
Вскоре собрались гости. Нарком легкой промышленности РСФСР умильно сказал:
— Хорошо выглядит И. В., настроение, видно, хорошее…
Надюша и Егор Кузьмич переглянулись и улыбнулись друг другу.
Понемногу Федя начинает вспоминать о своей семье и доме по-иному, все-таки дом был тылом, фундаментом — тылом для «отступления», "резервным полком", он придавал Феде уверенность; фундаментом его успехов, его роста. Оттуда, из этого дома, веяло спокойным запахом печеного хлеба, кваса; треск древоточца — как мелодия спокойствия и основательности.
То обстоятельство, что воображение, как и сознание, отстало от знания, что квантовую теорию, скажем, можно только знать, но нельзя себе вообразить, таит в себе великую опасность для человечества.
Ум, разум, ratio, интеллект становится чересчур высоко над чувством (или душой, как это называли в старину), и это чревато бесчувствием, бездушием. Разум, вышедший из-под контроля чувств, — великий тиран.
Чувства, вышедшие из-под контроля разума, способны многое разрушить. Разум, вышедший из-под контроля чувств, способен уничтожить вселенную.
В 1-й части на вечере шефства даются ощущения Феди по поводу всего, что он видит и слышит. Во 2-й части даются ощущения Володи Ловейко на том же вечере по поводу того же самого; в подходе каждого из них — сущность их социального положения, характера и психологии. (Этот метод — показывать одно и то же через разных людей — кажется мне очень новым и полным больших возможностей.)
Не только разные люди. Одни и те же люди видят одно и то же, но в разное время, например, в молодости и позже — по-разному и по-разному оценивают. Это в большом романе необходимо показать — в этом диалектика применительно к художественному изображению человека. Это — не фокус, не манера, а жизнь.
(Без даты.)
Развитие капитализма в экономике было прервано пролетарской революцией. В быту капитализм победил. Все попытки покончить с буржуазным бытом не удались: коммуны, общие кухни и т. д. Социализм строился людьми, погрязшими целиком в буржуазных нравах и мещанском быте (или нищете). Люди старого мира [в большинстве своем не желая этого (каждый в отдельности)] строили новый мир. Конечно, это было бы невозможно, без ощущения правоты дела большевиков и без убежденности в справедливости ленинизма даже у остальных людей.
Политика — высшая страсть человечества в XX веке (в России во всяком случае).
_____
Дощатые подмостки трибун с высокими крутыми лестницами, целиком затянутые красной материей; а внизу, под ними, в темных, пахнущих свежей сосной переплетениях досок и брусков — дети революционеров.
(Ловейко.)
Трибуны, на которых чувствуешь себя властителем душ миллионов, с которых хочется говорить, кричать, призывать людей идти вперед, все время находясь здесь, вокруг. Хочется, чтобы миллионы проходили мимо, бесконечно уходя к счастью и борьбе, путями указанными тобой.
Трибуны, — на которых чувствуешь себя великим, — ликующим и погибающим за человечество.
Она смотрит на ораторшу и думает, замирая и ликуя: что нужно совершить, какие огни и воды надо пройти, чтобы завоевать право вот так стоять на трибуне и обращаться к народу с такой силой и уверенностью.
____
Гениальность — это повышенное чувство правды, страсть к правде при умении выразить эту страсть в чем-либо: в вещах или поступках.
"Да, мы расплодим большую интеллигенцию, знающую свое дело, но не дюже интеллигентскую, и от нее будет пахнуть деревней и полустанком, и она будет знать технику и математику, но не будет разбираться в скульптуре и поэзии, ибо все будет делаться быстро — иначе нельзя".
(Ялта, декабрь 1958 г. — январь 1959 г.)