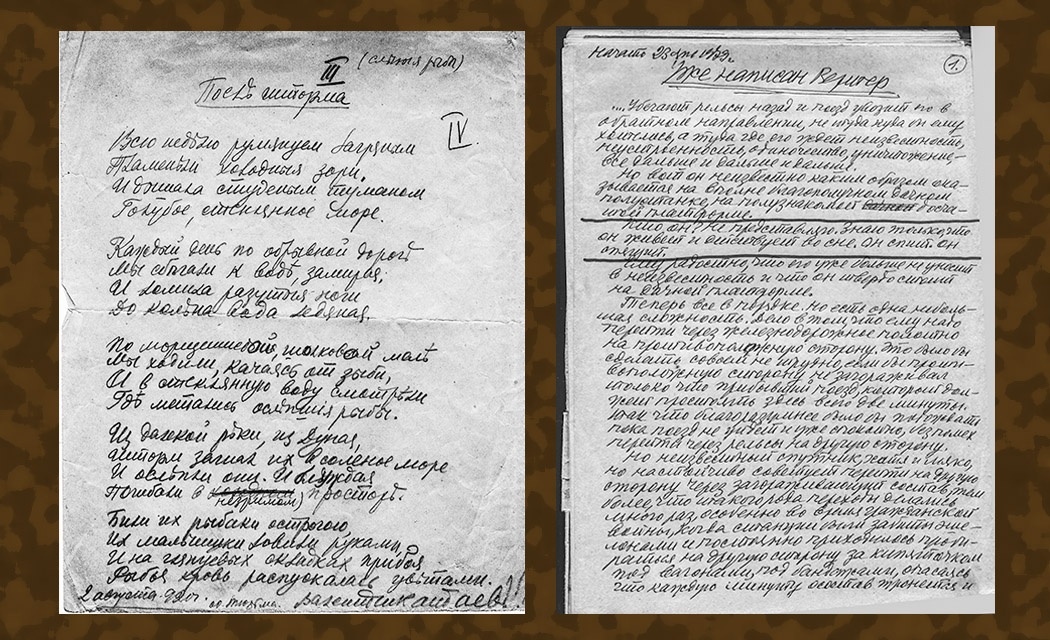Поднимаясь к нему по лестнице, я думала о том, что вряд ли в городе есть еще место и человек, с которым самый важный разговор – о стихотворении. И одна строчка может стать темой, точкой отсчёта на целый день, если не жизнь, нацеленная на особое зрение, способное разглядеть мельчайшие детали, тончайшие узоры поэтического мастерства. Прививая внимательному собеседнику эстетический вкус, он вводил в особое смысловое и чувственное поле, поле, без которого немыслима жизнь в ее бытовом и бытийном, иначе говоря божественном понимании и восприятии. Поднимаясь к нему, я знала, что сейчас будут самые интересные и главные разговоры на свете: о поэзии, будь это рассказ о его встрече с Ахматовой, или беседы о каких-то самых тонких – микроскопических – нитях стихотворной строки, что следует, а что не следует впускать в стихотворение. Поднимаясь к нему ради обычной встречи, человек шёл и к уникальной личности, дарившей прояснённый мир, и к самому себе. Он был безусловным рыцарем стиха.
Начиналось все красиво и даже изысканно, в некотором смысле. По звукописи, по смысловому содержанию. Родился в Тулузе – семья эмигрантов, французская школа, особая культура жизни. Вглядимся в неё пристальнее. «Его отец Григорий Эквтимович Орагвелидзе, примкнув к грузинской меньшевистской фракции, через Турцию приезжает в Париж, где, преодолевая бесчисленные трудности, заканчивает университет и становится многообещающим архитектором-озеленителем. По его замыслу разбит один из парков в Париже. Учёба в университете сочеталась с «черной» работой, которую Григол находил, чтобы обеспечить себе существование: он был мойщиком вагонов в железнодорожном депо, разносчиком газет. Но молодость, вера в хорошее, светлое побеждали. Однажды он сильно заболел, живя на мансарде. Тут-то и пришла на помощь будущая мама Гиви Елизавета Аркадьевна Цамек. Она родилась в Польше в 1904 г. и тоже приехала в Париж, чтобы продолжить учёбу. Была она студенткой сельскохозяйственного факультета и собиралась стать агрономом. Так они остались жить на чердаке, пока не появился Гиви, постепенно дела стали поправляться. Григол Орагвелидзе уже стал архитектором, по его проекту строится дом-усадьба. Они разъезжают по Европе. Гиви учится в престижном колледже-интернате. В доме говорят по-французски, по-немецки (два года семья жила в Германии), по-польски. Начинается война. Семья уезжает в Германию, оставив Гиви в Париже. В Германии молодая Лиза помогает прятать пленных, рискуя жизнью мужа и ребёнка. Об этом позже напишет Орий Бенн в своей книге «Невидимый фронт».
Григол не перестаёт тосковать по Грузии, но писать, естественно, не может. Дома, в Тбилиси, его ждёт Екатерина Микеладзе, бабушка Гиви, дядя Иван Эквтимович, Марго Чихладзе, сестра. Они мечтают увидеть Гришу с семьёй. Гриша ведёт переписку с маленькой Нателой, стараясь хоть что-нибудь узнать о семье. В одном из писем он пишет: «Дорогая Натела, по возвращении на родину, я хочу, чтобы ты очень дружила с моим Гиви, но боюсь, что он совсем другой. Знаешь, он учится в классе, где 18 французов и только он один – грузин. Но мальчик он смышлёный и работоспособный. По французскому у него уже пятёрка, зато по математике – тройки. Наверное, будет гуманитарием. И ты, моя дорогая девочка, старайся хорошо учиться. К тому же, девочки должны уметь шить, готовить». Но что могла написать в ответ тринадцатилетняя Натела, когда она совсем не понимала, что же все-таки происходит и почему ее дорогой и любимый дядя так далеко. Что она могла написать среди строк, а Григол все-таки искал… Гиви счастлив. На каникулы он ездит в Польшу к своим польским бабушке и дедушке. Его любят, балуют. Но папа воспитывает строго. За границей он обучает его грузинскому языку (Григол был писателем)». Итак, закваска, закалка, стартовая дорожка была просто идеальной для будущего идеалиста-филолога, поэта, думающего человека. А дальше... Дальше острый угол, гигантский локоть рока отбрасывает их в иной ритм, на другую планету (а ведь думали-то, что родина...) «Появляется во Франции Илья Тавадзе, который призывает всех грузин вернуться на родину. Семье Орагвелидзе было трудно экономически, и Григол пытается продать свой шикарный дом, чтобы поехать в Грузию, но Тавадзе торопит. «Дома заработаешь гораздо больше». Так, оставив и дом, и прислугу, отец, мать и сын возвращаются на родину, поверив в обещанные неприкосновенность и прощение». Можно только вообразить, какой скачок совершила эта семья, вслед за другими, наивными (и откуда только берётся у интеллигенции эта слепая вера в иллюзии, всегда сопутствующие злу?). И суть сего скачка не машина времени, не перемещение в пространстве, но это прыжок в котловину ада, в «Котлован» совершенно абсурдной, безбожной идиоматики существования, где человек вполне заменим - пустотой. Страшной пустотой, зияющей дырой, что считалось адекватным и обыденным. А дальше жизнь поскользила, но не поскользнулась, по накатанному пути. «В 1950 году Григол Орагвелидзе погибает в чекистских застенках, а его жена и сын сосланы в теплушках в Среднюю Азию. Гиви, двадцатилетний студент западноевропейского факультета, не успел завершить учёбы, подружиться со своими сверстниками, усвоить грузинские обычаи и нравы. Лишённые прав, мать с сыном все же сумели как-то приспособиться к жизни: мать – благодаря блестящему знанию немецкого и французского языков (в Тбилиси многие помнят «танте Лизу»), сын же – знанию французского. Несмотря на многочисленные препятствия, Гиви удаётся закончить Тбилисский университет. Каким-то образом он добивается разрешения уже после реабилитации отца приезжать в Тбилиси на сдачу экзаменов. Но люди жестоки: в один день ему надо было сдать 15 предметов. И он сдаёт: французский и история – отлично, основы марксизма-ленинизма – удовлетворительно. Позже он расскажет, что тройку ему поставили за прекрасные шкурки, которые он в подарок привозил из Казахстана».
... Как-то я поделилась с ним, что не люблю и боюсь больших статуй, памятников. «Значит, вы любите природу», - с уверенностью ответил Гиви Григорьевич, и, естественно, оказался прав. Он рассказал, что когда был в Лувре, Венера Милосская не произвела такого впечатления, и ему гораздо милее маленькая статуэтка. Если вдуматься, это и есть некий символ его отношения и способ выживания – эстетического и, следовательно, нравственного. Гигантомания и монументализм, по сей день присущие большой стране – тем ужаснее, если и маленькой, - могут многое сказать специалисту-психологу, социологу и естественным образом не принимаются настоящими художниками. Природа, абсолютно до конца дорисованная Создателем, не навязывающая себя, а включающая в гармонию и дарящая свободное дыхание, компрометирующая границы и непонятные суетные размолвки – короче, любые проявления зла, располагает к любви по определению. И чем тоньше устроен человек, тем острее и точнее он это чувствует. Такое или дано, или нет. Это было одно из главных свойств мироощущения Гиви Григорьевича: чувствовать естество. Естество Природы, естество поэта, естество стиха и звука... Жизнь перекатывалась из страны в страну, не изменяя в нем главного. Он жил и выжил свободным человеком, с обезоруживающей улыбкой, мужественной и беззащитной душой. «... Лиза решает возвратиться в Грузию, на родину мужа, Гиви начинает работу в Ташкентском университете, затем становится заведующим кафедрой французской филологии, читает лекции, сотрудничает в литературной прессе в качестве критика, переводчика, театрального обозревателя. Его любят, он известен. Его перу принадлежит монография «Стих и поэтическое видение» (докторская диссертация, которую он защищает в Тбилиси в 1973 году), сборник переводов с французского, много статей по проблемам французской поэзии и стиха. Русло жизни Гиви Орагвелидзе резко меняется в 1979 году, когда он с супругой переезжает в Тбилиси. Всю свою дальнейшую жизнь он связал с Главной редакционной коллегией по переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии, а позднее, с 1982 года, он сотрудничает в журнале «Литературная Грузия», где заведовал отделом поэзии до своей кончины 17 августа 1997 года». «Познакомился я с Гиви Орагвелидзе не очень давно – в начале девяностых годов, - вспоминает Георгий Чарквиани. - Затем получилось так, что проработал с ним в редакции журнала «Литературная Грузия» несколько лет. Трудно сказать, как будут оценивать историки это время, но для людей нашего поколения оно и с бытовой, и с социальной, и с идеологической, и с политической точек зрения было тяжёлым. Менялись общественный строй, страна, правительства, взгляды, убеждения и условия жизни. Отсутствие в зимний период отопления почти во всех помещениях, люди, сидящие на важных совещаниях в учреждениях и обедающие водянистым супом у себя дома в пальто и шапках… Длинные очереди за хлебом, в которых можно было совершенно зря простоять часами… Вместо денег с профилем отнюдь не самого человечного «вождя мирового пролетариата» - синие, зелёные, сиренево-коричневые, не по дням, а по часам теряющие покупательную способность купоны… График подачи электричества, всегда нарушаемый в нежелательную для потребителя сторону… Баснословные цены на рынках и выросшие как по мановению волшебной палочки разных и прочих торговых будках… Через все это пришлось пройти. Гиви Орагвелидзе не был человеком, склонным к нытью и хныканью. Он умел по-мужски относиться к бытовым бедам и невзгодам, смотреть на них иронично, с юмором. Однако это вовсе не исключало недовольства собой: ему всегда было неудобно, чуть ли не стыдно, что он не может материально должным образом обеспечить семью. Но честным литературным трудом в те годы сделать это, пожалуй, было невозможно. Впрочем, как и сейчас... Гиви никогда не рекламировал своих стихов, не читал их в застолье, ни тем более в другой обстановке. Лишь один раз дал он мне прочитать, и то очень немногое. В этом сказывалась врождённая скромность, быть может, даже застенчивость. А вот переводы показывал, казалось, с большой охотой. Перевёл он многих поэтов и целые книги Терентия Гранели, Шалвы Кармели, Шота Чантладзе…» (Г. Чарквиани, «Лаборатория») Поэты не женщины, считал Гиви Григорьевич. Они просто теряют свой пол, занимаясь стихописанием. В равной степени сказанное касалось и актёров. «Забудем, что вы поэт», - сказал он на лестничной площадке и, слегка приобняв, произнёс несколько джентльменских комплиментов. Так, в последний раз, мы вместе выходили из редакции «Литературной Грузии». Он уходил в отпуск, и ушёл навсегда. Нам было по дороге – напрашиваются метафизические смыслы, - и мы еще долго стояли в парке, смотрели на двух лебедей, плавающих в искусственном, зажатом асфальтом пруду с фонтаном, разговаривали обо всем на свете. «Наша память избирательна, как урна», - заметил когда-то Довлатов, и сейчас даже трудно вспомнить детали и темы наших бесед, но точно сохранилось ощущение связанности с этими двумя красивыми, а потому и затасканными искусством птицами, уж слишком одинокими на общем фоне. О них мы тоже говорили. И снова я шла домой с ощущением редкости, уникальности нашего общения и этого человека вообще. «Уходящая натура», кажется, так говорят про «ускользающую красоту». Это про Венецию? Про старика, еще где-то в закоулках нашего мира сидящего на скамейке с выражением лица из другой жизни? Или про последнего из могикан, причём в любой сфере и в любом возрасте? Про кого-то ИНОГО в нашей ускоряющейся жизни? Да, в общем, какая разница. Он был действительно одним из последних, рядом с кем оставалось ощущение чистоты. Лебеди... Давно уже их нет. Да и пруд с фонтаном высохли.
Инна Кулишова