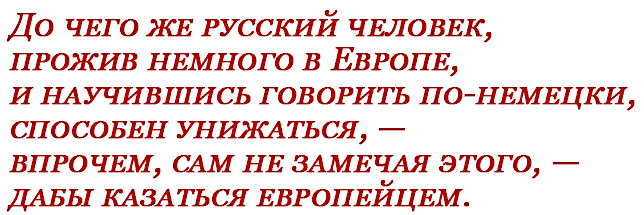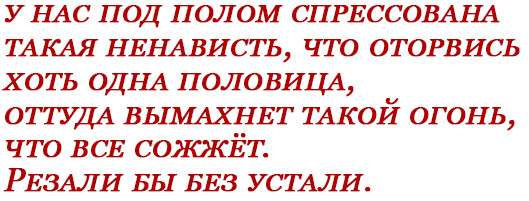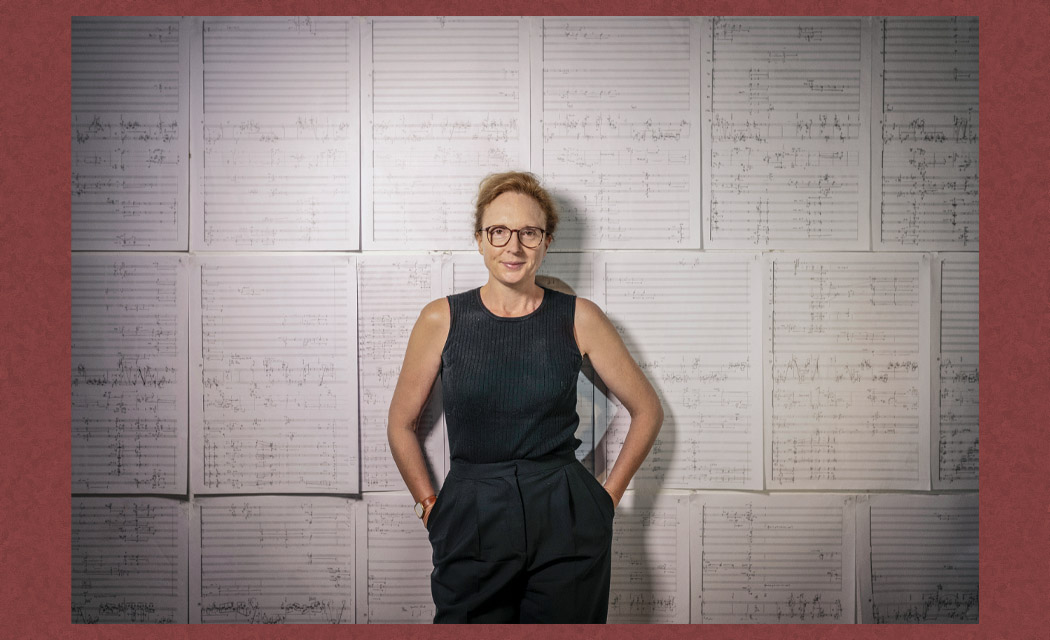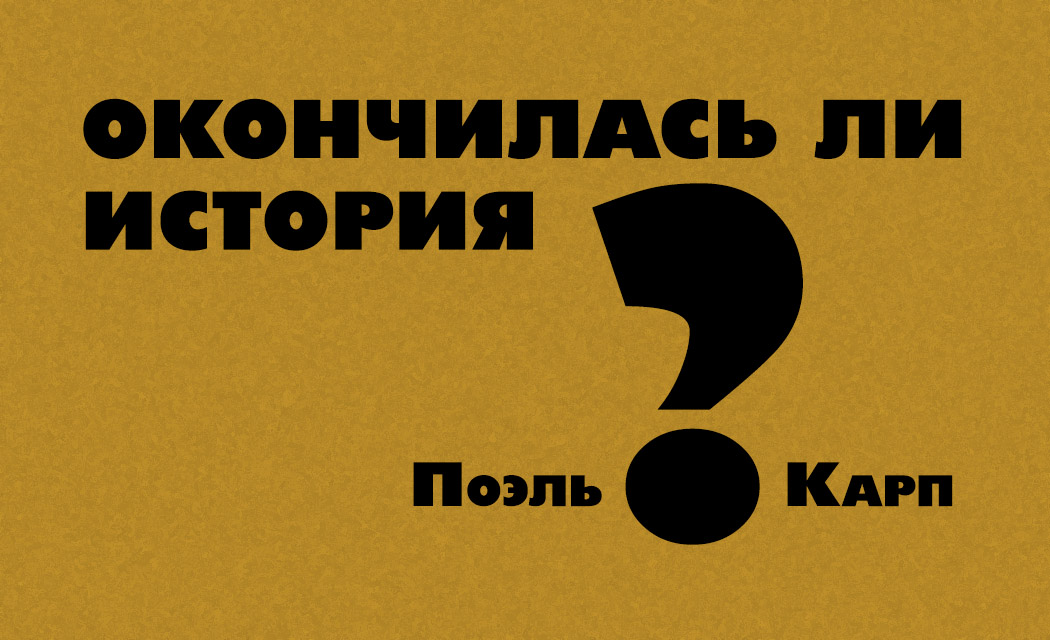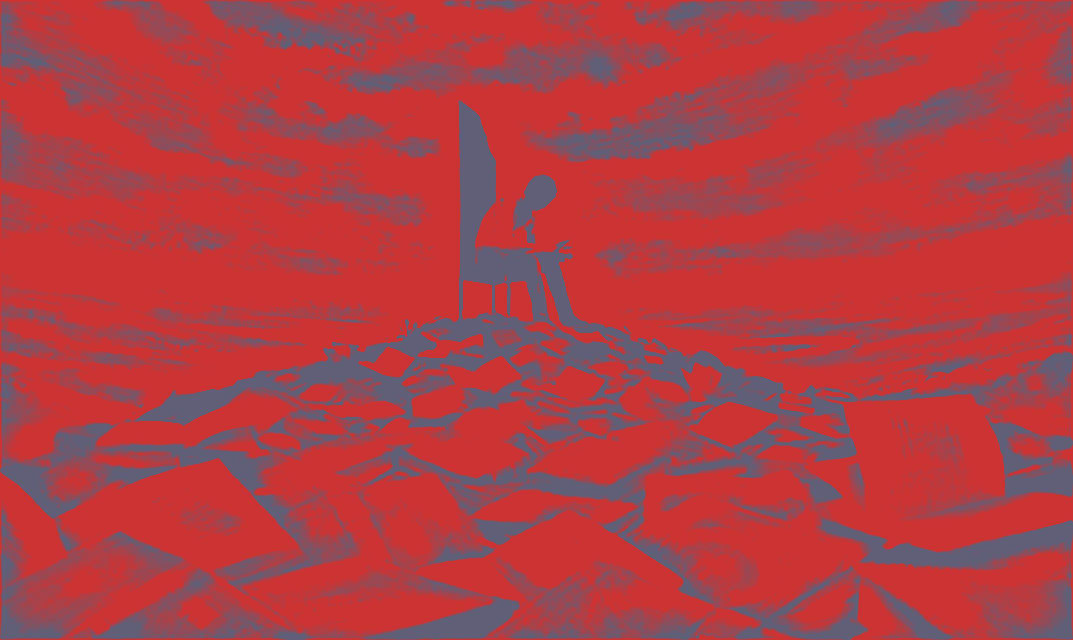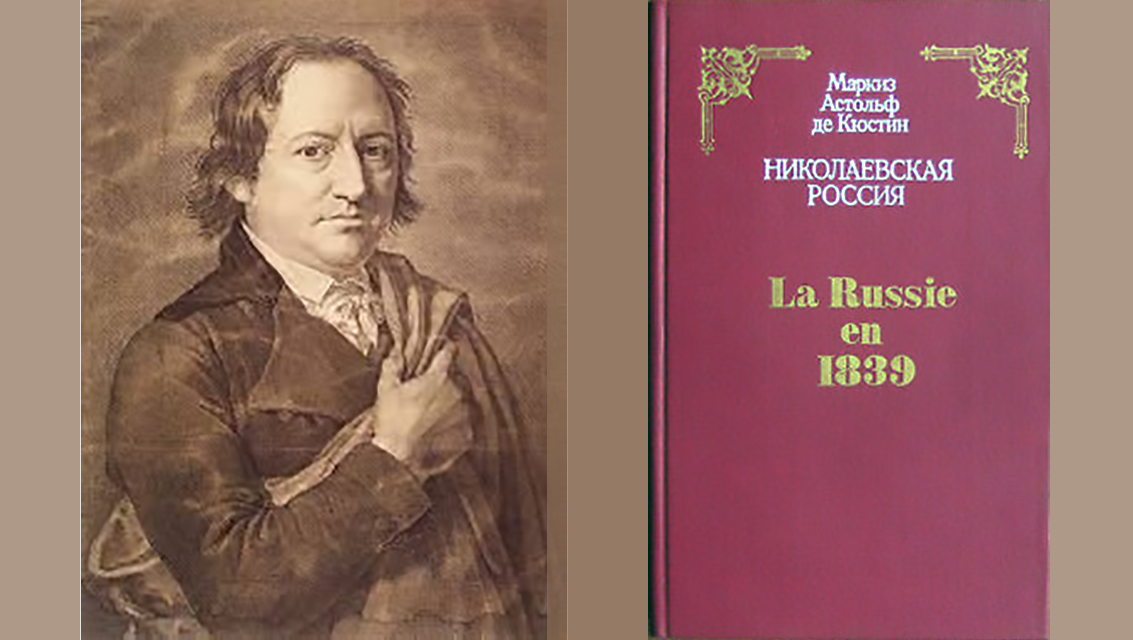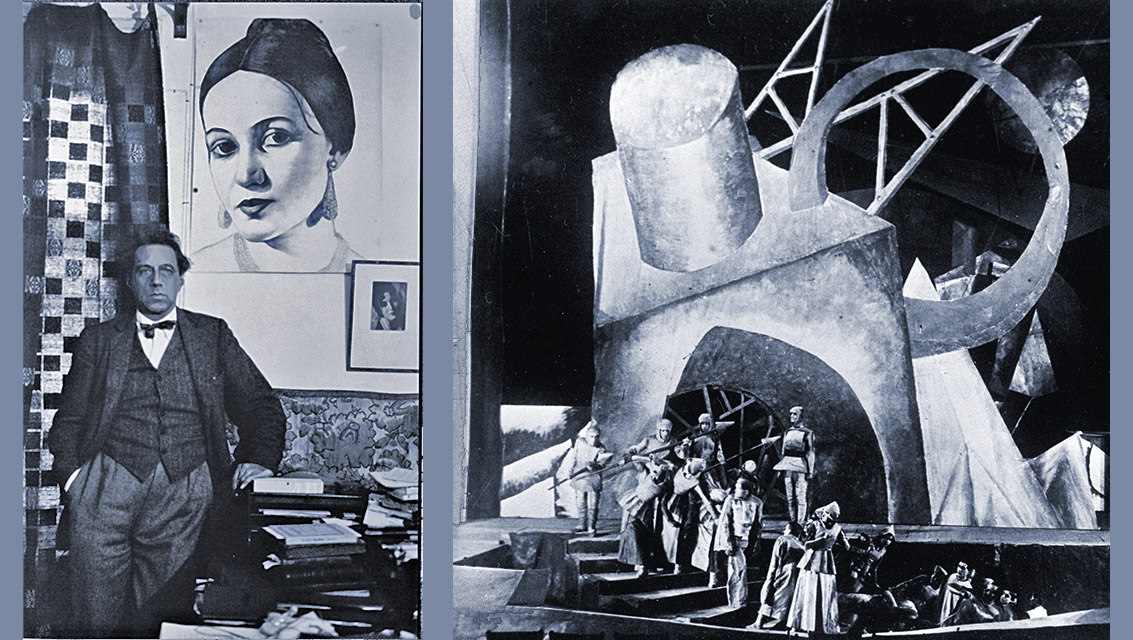III. Серапионы: в Питере и в Европе
Немецкий шпион Константин Федин
Говоря о Западе, Федин всегда думал о Германии, где провёл несколько лет и где сформировался как художественная личность. Это знали не только родные и близкие друзья, но и те, кому приходилось беседовать с ним на отвлечённые темы. В годы Отечественной войны, когда Федин в декларировании своей любви к Германии проявлял, понятно, определённую сдержанность, его «немецкие корни» все же давали о себе знать (дело, конечно, не во фрондёрстве или беззаботности, а именно в «корнях»). 3 февраля 1943 года, когда завершилась Сталинградская битва и фельдмаршал Паулюс уже был пленён, Серапионов Брат и верный Серапионов друг Всеволод Иванов, имевший на многое трезвый взгляд со стороны, и взгляд, очень независимый (от дружб, в частности), записал в дневнике: «Вечером сидели с К. Фединым — за графинчиком.
Победа под Сталинградом даже и его прошибла, хотя он ее и пытается умалить тем, что, мол, это, в сущности, не фельдмаршал, а фашистский ставленник, что, мол, дали ему звание за героизм, а то, что они сдались, — на европейский вкус, — не имеет значения: они защищали захваченный ими Сталинград!.. До чего же русский человек, прожив немного в Европе, и научившись говорить по-немецки, способен унижаться, — впрочем, сам не замечая этого, — дабы казаться европейцем. А ведь Федин и талантливый, и умный».
В опубликованных через сорок лет после войны дневниках Федина можно найти немало записей, подтверждающих его внутреннее чувство к Германии—даже в годы, когда Россия сражалась с ней не на жизнь, а на смерть (упомяну, скорее для справки, что никто из близких Федина в Отечественную войну не пострадал). Иногда это замечается в самом неожиданном контексте (скажем, записывает, что А.Н. Толстой, хорошо ему знакомый по довоенному Детскому Селу, «боялся покойников, но тщеславие привело его к харьковским виселицам: как член Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию немецких злодеяний он присутствовал на казни немецких палачей и должен был смотреть, как они дёргаются в петлях», и делает характерную приписку о Толстом к сюжету декабря 1943 года: «Он был разбит после этого зрелища для толпы…» — все тут не случайно: и слово «толпа», когда принято было говорить о «великом советском народе», и «тщеславие» вместо «праведного гнева», как объяснение толстовского мотива — все из-за тех же «корней»).
Посланный в Германию «Известиями» в 1945 году, вскоре после капитуляции немцев, Федин много общается с населением и записывает свои впечатления о тогдашних жителях Германии, причём впечатления эти таковы, как если б наши страны не разделяло море крови. Более того, он с удовольствием проводит два вечера в немецком драматическом театре (с традиционной педантичностью уже восстановленном и показывающем, разумеется, новый репертуар: запрещённого при Гитлере «Натана мудрого» Лессинга и в честь победителей — «Дядю Ваню»). Вряд ли кто из русских писателей, кого посылали тогда в Германию, нашёл бы это возможным, и дело тут не просто в знании Фединым немецкого.
Вернёмся в эпицентр войны, в 1943 год, и вспомним февральскую запись в дневнике Вс. Иванова. Подобное, пусть и в смягчённой форме, слышали от Федина многие, а еще жалобы на обращение властей с писателями (ему и самому пришлось в войну претерпеть сильную атаку режима)… В итоге, летом 1943 года о Федине была сделана еще одна запись, и уже не в писательском дневнике. Она могла обернуться для К.А. бедой непоправимой. Информируя наркома Госбезопасности Меркулова об антисоветских высказываниях советских писателей, Управление контрразведки НКГБ СССР предпослало сводке доносов на Федина такую убийственную по тому времени справку: «До 1918 года был в плену в Германии, поклонник “немецкой культуры”, неоднократно выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР». Такие формулы уже с 30-х годов, с началом эры шпиономании, автоматически означали обвинение в шпионаже с вытекающими из него последствиями. Дело наверняка заведено было, а вот ордер на арест Федина не выписали, хотя все сказанное в справке фактически — правда…
Весной 1914года Константин Федин, студент Московского коммерческого института, отправился в Германию — продолжить обучение и усовершенствоваться в языке. А 1 августа того же года началась, как известно, Первая мировая война, в которой Россия выступила на стороне Франции и ее союзников. Все русские, находившиеся в это время в Германии, были интернированы, стали, как их называли, гражданскими пленными. Пребывая в плену, Федин продолжал учиться (в частности, языку), писал (еще перед войной он послал из Нюрнберга в Россию в журнал «Новый Сатирикон» свои рассказы), зарабатывал на жизнь, служа хористом или с успехом играя в оперетке. (На материале реальных событий своей жизни в Германии 1914— 1917 годов написал Федин уже в 1930 годы «маленький роман» «Как я был актёром» — скорее, в меру живые биографические записки; подробности и атмосферу жизни тылов воюющей Германии в них почувствовать можно).
Тогдашняя жизнь будущего русского писателя в Германии была самым непосредственным образом интегрирована в жизнь провинциального немецкого городка — именно это обеспечило Федину не поверхностное понимание немецкой ментальности и специфики немецкого быта; потом это нашло отражение на многих страницах его прозы. Надо еще сказать: то германское актёрство легко и естественно вошло в суть Федина, и многие писавшие о нем мемуаристы отмечали актёрство как некую имманентную его черту. Что же до литературы — все годы плена Федин вёл дневники, которые, до того, как он уничтожил их в 1925 году, пригодились в работе над «Городами и годами».
Федин вернулся из плена в Россию году в 1918—1919-м, сначала — в родное Поволжье, где быстро вписался в новую жизнь, став, в силу тогдашней потребности в грамотных людях, вполне ловким деятелем агитпропа, а уже в 1920 году — перебрался в Петроград примерно на те же роли.
Именно в Питере Федин стал писателем. Здесь он познакомился и подружился с Горьким, который сыграл в его жизни исключительную роль — об этом Федин не забывал никогда. После Самары, имея опыт партийного газетчика, первое время и в Питере служил Федин по агитпроповской части; потом по совету Горького газету оставил, сосредоточившись целиком на писательстве. В 1920 году Федин представил свой рассказ «Сад» на конкурс Дома литераторов, устроенный для начинающих авторов (в жюри входили такие мэтры, как Замятин и Эйхенбаум). Рассказ был политически нейтрален и повествовал о нынешней развороченной жизни российской провинции. Евгений Замятин — самый почитаемый мастер прозы в тогдашнем Питере — написал о фединском «Саде»: «до странности зрелый рассказ, под которым подписался бы и Бунин». Надо ли говорить, что тогда была совершенно иная литмода — в прозе безраздельно воцарился Пильняк. Когда, уже в 1921 году, подвели итоги конкурса, именно фединский «Сад» получил первую премию. К тому времени Горький уже свёл Федина с Серапионовыми Братьями (замечу, что из шести премий конкурса Дома литераторов Серапионы взяли пять!). Федин легко и естественно вошёл в Серапионово Братство, и его квартира на Литейном, 33, куда он вскоре перебрался, стала знакомой всем Серапионам. Войдя в Братство, Федин вовсе не отказался от своих литературных пристрастий и убеждений: яростно споря друг с другом, Братья сохраняли за собой абсолютную свободу (перефразируя известную в истории советской литературы формулу, скажем: Серапионы признавали за собой любые права, кроме одного — права писать плохо). Вскоре после прихода к ним автора «Сада» Шкловский, которого Федин внутренне недолюбливал всю жизнь, привёл к Серапионам юного Каверина (тогда еще Вениамина Зильбера), и тот навсегда запомнил страстный спор незнакомых ему Лунца и Федина о, как выражались впоследствии, столбовой дороге русской прозы. Это был яростный спор западного и восточного крыла Серапионов, и позицию обоих крыльев выражали именно западник Лунц и центрист Федин, способный, в отличие от восточников и за них, грамотно спорить с универсантом Лунцем. Чтобы покончить с 1921 годом (годом рождения Серапионов), отмечу еще одно важное событие биографии Федина — после подавления кронштадтского восстания и расстрела участвовавших в нём моряков Федин вышел из большевистской партии (об этом жесте всегда помнили, но никогда потом не говорили его друзья) …
В конце 1924 года был издан первый роман Федина «Города и годы», вобравший многое из его жизненного опыта. В одном из писем Горькому (16 июля 1924) Федин исповедовался: «Этот роман занимает меня целиком вот уже почти два года… Материал — война и — отчасти — революция. На три четверти роман германский: действие развивается в немецком городишке, на фоне обывательского “тыла”. Я до такой степени влез в Германию, что сплошь и рядом не пишу, а “перевожу” с немецкого, думаю по-немецки и чувствую. Когда перехожу на русскую землю, к русским людям, к русской речи — испытываю непреоборимые трудности: чужой материал!»
Живя в Петрограде, Федин был счастлив — семья, близкая литературная среда, а еще и среда художественная, Филармония, Эрмитаж. Его внутренний мир резонировал на классические музыку и живопись (особенно ценил Федин мастеров Северного Возрождения); что же касается какого-либо авангарда (и в живописи, и в музыке), это им в общем-то не принималось никогда.
В 1928 году с помощью Горького Константин Федин получил возможность поездить по Германии уже известным русским писателем. Его там много переводили (книги выпускало известное левое издательство «Малик ферлаг»), и, как вспоминал Роман Гуль, «Федин тут был не только писателем, но писателем-послом “новой советской” страны и ее литературы». Федин постарался увидеть, как теперь живут в краях, куда его заносило в годы пленения; он встречался со знакомыми тех лет, иногда даже давал им предварительно знать о своём приезде; его дневниковые записи 1928 года местами даже трогательны (26 июля: «Вечером Циттау! На вокзале — старая, хромая Марта, и так счастлива, словно встретила родного сына! И у меня, когда я подъезжал к городу, впервые в Германии забилось сердце. Нет, здесь я хоть и чужой, но не лишний человек!
Пристрастный и потому не всегда справедливый в суждениях Роман Гуль, подружившись с Фединым в тот его приезд, записал многое из рассказанного питерским гостем и, обратившись потом к давним записям, включил кое-что из этих рассказов в первый том своих мемуаров. По многим соображениям эти записи кажутся достоверными; они показывают Федина умным, хорошо понимающим происходящее в России и только на Западе имеющим возможность об этом говорить свободно. Говоря с новым другом, он неизменно называл большевиков «они». Одно из его высказываний, записанных Гулем, имеет отношение и к нашим дням, включая переломный 1991 год, когда Федин давно уже покоился в Москве на Новодевичьем. Приведу его. «Как-то, — пишет Гуль, — я разговаривал с Фединым на тему, возможно ли “свержение советской власти” (во что я не верил). Федин сказал неопределённо: “Перевертон? Черт его знает, но не дай Бог…” — “Почему?” — “Да потому, что ты даже не представляешь себе, что бы тогда произошло. Ведь у нас под полом спрессована такая ненависть, что оторвись хоть одна половица, оттуда вымахнет такой огонь, что все сожжёт. Резали бы без устали. “». Возможно, это опасение, хотя бы отчасти, объясняет вызывавшее естественное негодование советской интеллигенции и казавшееся ей подлым поведение Федина в хрущёвской-брежневскую пору. Помянув здесь 1991 год, имею в виду лишь крушение режима (а не пережитую нами тогда демократическую эйфорию), да еще страшный и все более набирающий силу русский национал-социализм, который, по слову Федина, «вымахал» наружу после того крушения и еще покажет себя.
В 1932—1933 годах опасно болевшему (туберкулёз) Федину Политбюро, оценившее этого аккуратного в письме ленинградского прозаика и, к тому же, друга Горького, позволило за госсчёт дважды выезжать на лечение за рубеж—и он был спасён. Реальные обстоятельства поездки и счастливого излечения в Давосе легко прочитываются в «маленьком романе» Федина «Санаторий Арктур» («Волшебная гора» для бедных), который я называю исключительно по причине подробностей биографического порядка.
Из разнообразных фединских сюжетов, связанных с поездками 1932— 1933 годов, упомяну один. В 1933 году пришедшие к власти гитлеровцы в ночь поджога рейхстага арестовали знаменитого публициста, пацифиста и антифашиста Карла фон Осецкого, что вызвало протесты по всему миру. Этот акт публично осуждал, надо полагать, и Федин — не знаю, вспоминал ли он тогда расстрелянного возле Питера в 1921 году Николая Гумилёва. Осецкий, правда, не был расстрелян, и в 1936 году ему присудили Нобелевскую премию мира, после чего он, уже тяжело больной, был переведён из концлагеря в больницу, где в 1938 году умер. А в ноябре 1945 года Федин, неожиданно попав в берлинский госпиталь из-за повреждения ноги по дороге в Нюрнберг, познакомился с санитаром, целый год ухаживавшим за поднадзорным Осецким. Федин записал в дневнике рассказанное санитаром Осецкого и кое-что связанное с самим узником. Этой записью он как бы подсмотрел нечто в собственной будущей судьбе, ибо, читая те дневниковые строки, нельзя не вспомнить совсем иной сюжет, относящийся уже к самому Федину и Переделкину 1958 года. Вот эта запись: «После присуждения <Осецкому> Нобелевской премии мира Геринг выступил по радио с возмущённой речью о “позоре” этого акта, ибо нельзя “считать предателя родины поборником мира”. Осецкому через судебные органы предложили отказаться от премии, но он заявил, что не сделает этого… Осецкий нашёл адвоката, согласившегося организовать получение премии. И действительно адвокат привёз деньги, но тотчас предал Осецкого, которого привлекли к суду. Деньги были отняты».40 Нет нужды выстраивать хорошо известный параллельный сюжет, заменяя Осецкого Пастернаком, а Геринга — Хрущёвым. Напомню только, что роль «судебной инстанции», предлагавшей отказаться от премии, в переделкинском сюжете старательно исполнял именно Федин…
Вернёмся, однако, к 1933 году. Приехав в Ленинград и узнав, что Горького больше не выпускают из СССР, Федин записал в дневнике об Алексее Максимовиче (21 сентября 1933): «Сам он за границу не поедет вообще; это, конечно, “событие”, которое будет иметь последствия и для литературного нашего быта, и — вероятно — для будущих писательских поездок за рубеж: они станут реже…». Так и оказалось — в следующий раз Федин очутился в Германии уже по окончании войны, в 1945 году, т.е. уже в другой жизни, потому что в 1937 году ему удалось уехать из Ленинграда (где, как и многие писатели, он под «заботливым» и давним приглядом НКВД чувствовал себя уже совсем неуютно) и перебраться в Москву (где он получил престижную квартиру, дачу в Переделкине и, на первых порах, нечто вроде гарантии уцелеть).