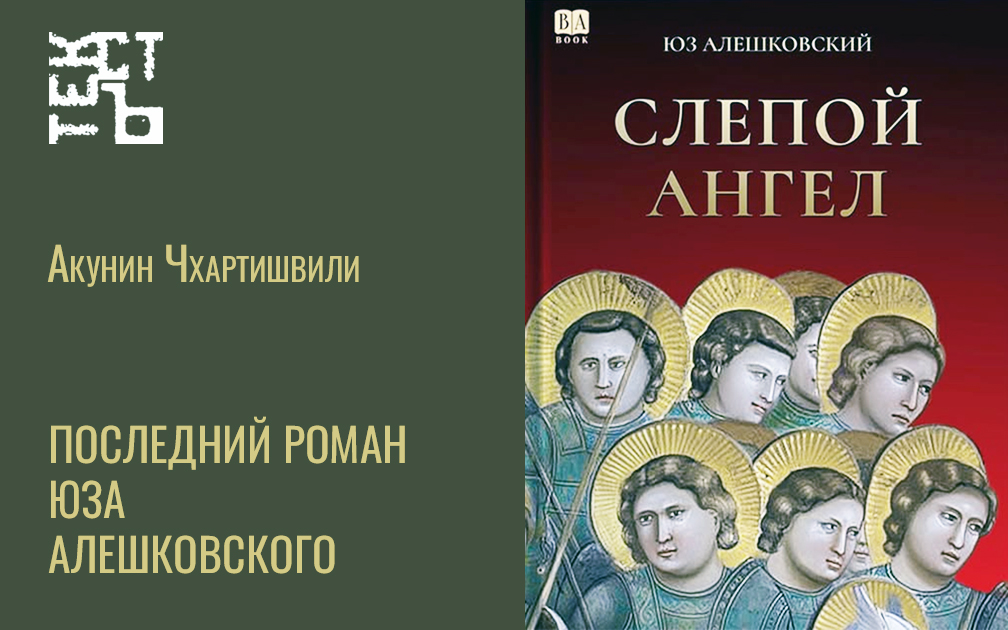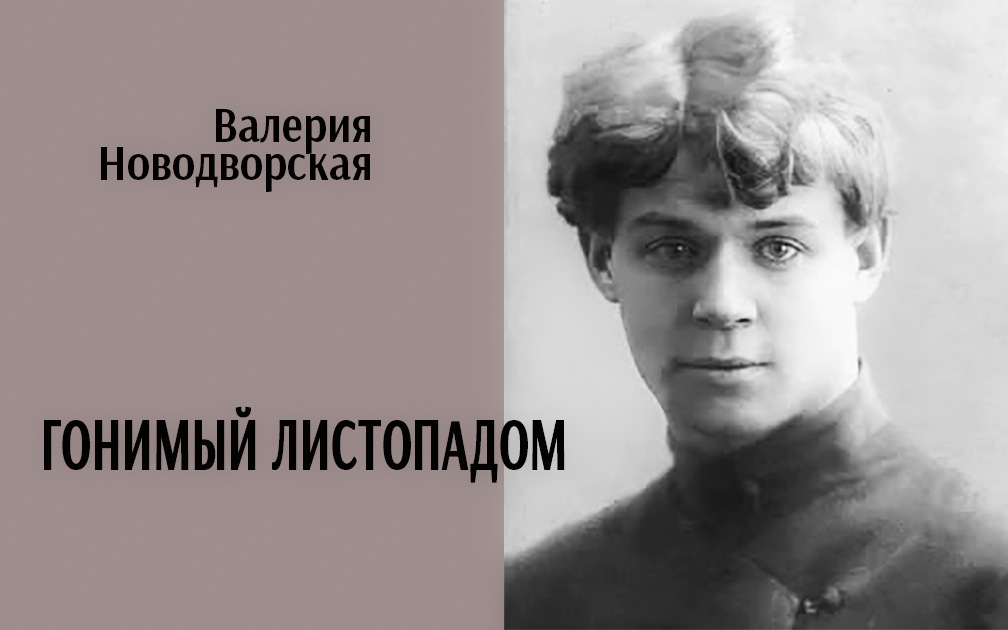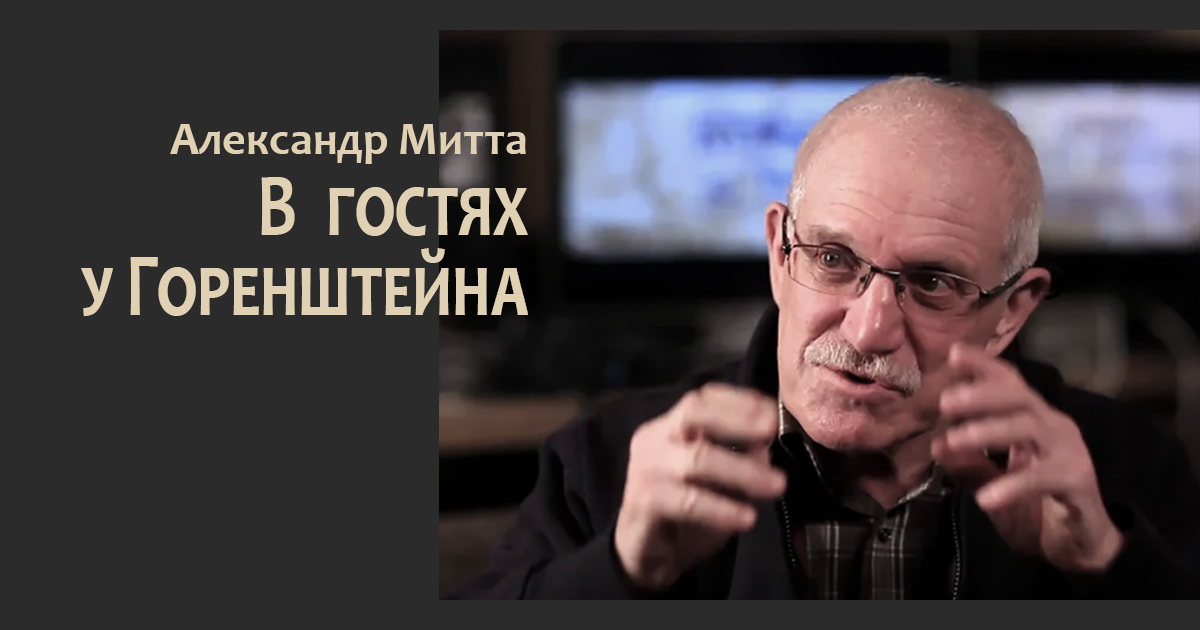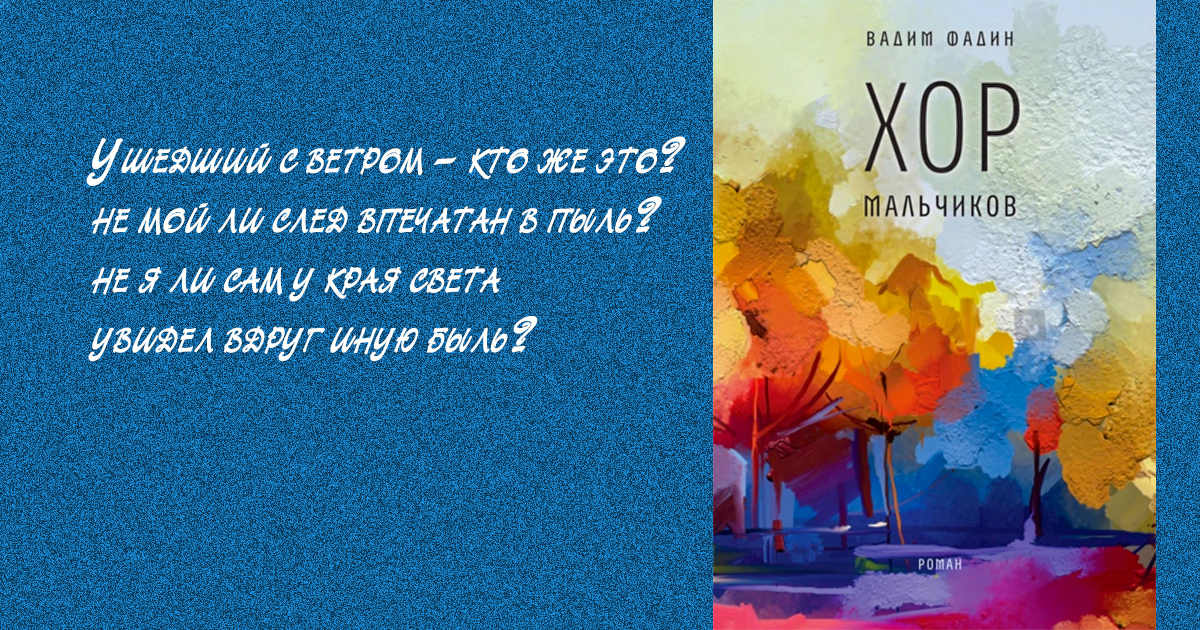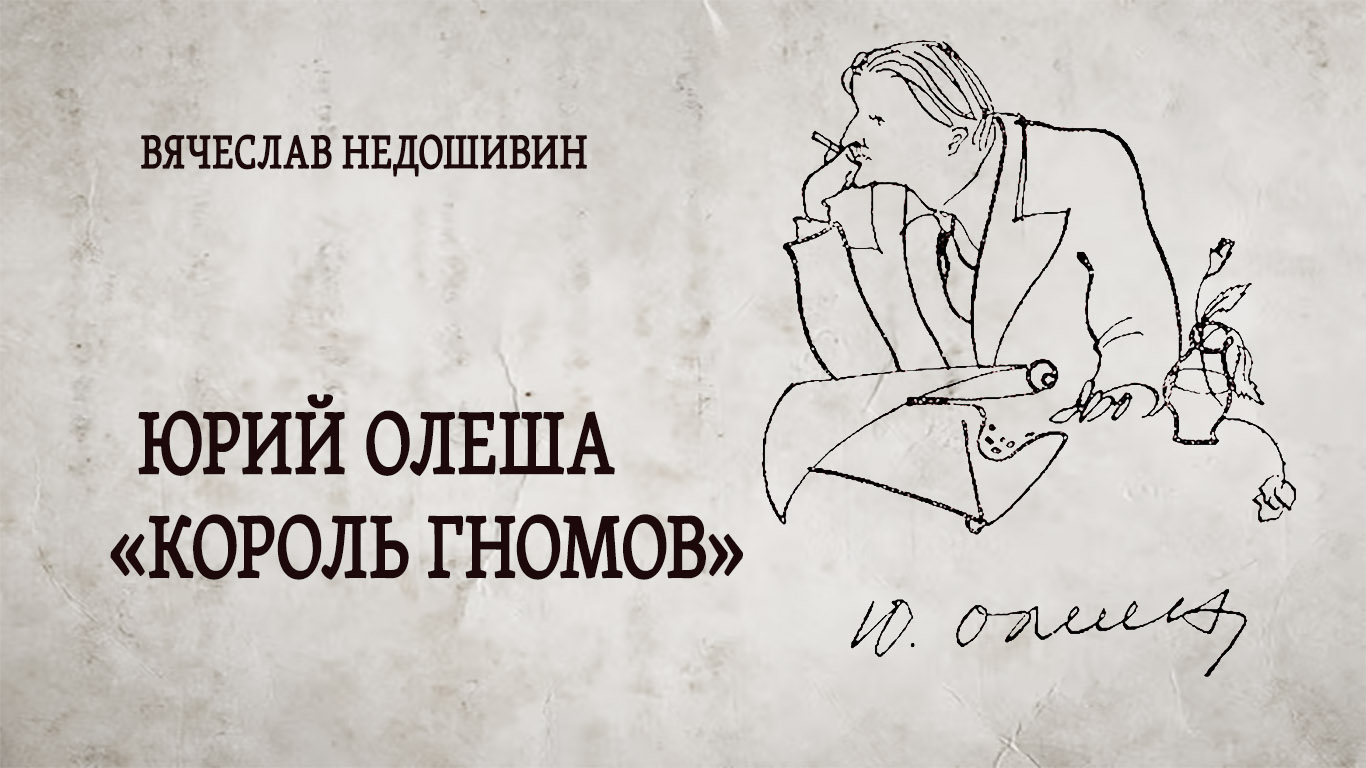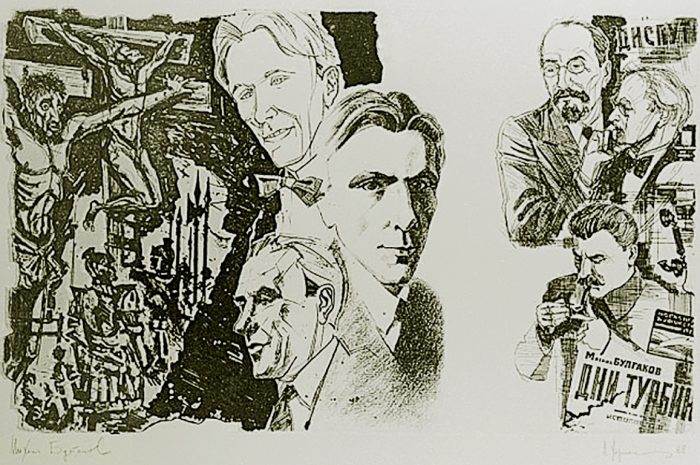
Памяти A. Ниновa
Еще раз о «иерусалимских» главах
«Мастера и Маргариты» Булгакова
В 1938 г. М.А. Булгаков, который, как известно, обладал некоторым даром предвидения , читая статью И.В. Миримского, посвящённую фантастике в произведениях Э.Т.А. Гофмана, подчеркнул, среди прочего, и следующий фрагмент: «…цитируются с научной серьёзностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонолатров, которых сам Гофман знал только понаслышке. В результате к имени Гофмана прикрепляются и получают широкое хождение прозвания, вроде спирит, теософ, экстатик, визионер и, наконец, просто сумасшедший. Сам Гофман, обладавший, как известно, необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков…» Вероятно, писатель думал и о своей судьбе, ибо подобная критическая практика получила широкое распространение и в истолковании его последнего романа.
Поэтому мне кажется, что уже сегодня пришло время для серьёзного пересмотра проблемы источников романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и сказать вслух о том, что многие из них, ничего общего с романом не имея, являются, так сказать, «интертекстуальным творчеством» самих критиков.
Я не первая делаю эту попытку. Уже в 1987 г. И. Бэлза указывал на часто встречающуюся в булгаковедении методологическую ошибку: при истолковании романа средствами ассоциативного метода изначально постулировать такое положение, которое само требует доказательств.
А совсем недавно об этом продолжающемся «поиске источников» вполне определенно высказались Л. Сазонова и М. Робинсон: «…к настоящему времени привели такое обилие параллелей и аналогий, далёких и близких, главным образом из литературы, начиная от евангельских текстов, вплоть до И. Эренбурга и А. Грина, что один только их перечень способен вызвать рефлексию относительно реальной возможности усвоения писателем невероятно огромного объёма материала в период создания романа».
Впрочем, и я, убеждённая в том, что в литературном отношении Булгаков был в долгу у А.Н. Толстого, на II Булгаковских чтениях выдвинула предположение о зависимости некоторых деталей обстановки бала у Сатаны от описаний в толстовском рассказе «Упырь». Сейчас, после опубликования дневника E.С. Булгаковой, для меня несомненно другое: радикальные изменения первой редакции главы, написанной в январе 1934 г., последовали после бала, который был дан весной 1935 г. в американском посольстве, и, вспоминая этот «сказочный» бал, Булгаков «по образу и подобию» описал и свой — «у Сатаны».
Учёному, конечно, всегда интересно устанавливать идейную, культурную и литературную преемственность, существующую между определенными образами, мотивами, персонажами, ситуациями, не утверждая эту преемственность в качестве некоего «плагиата» — заимствования, или прямого цитирования. Так поступил, например, В.А. Каверин, когда в 1965 г. — за год до первой публикации «Мастера и Маргариты» — указал, что в числе предшественников «трагического гротеска» Булгакова были Гоголь, Сенковский, Сухово-Кобылин и Салтыков-Щедрин.
Напомню, что в фельетоне «Багровый остров» (1924) есть замечательное предуведомление от автора: «Роман тов. Жюля Верна с французского на эзопский язык перевёл Михаил А. Булгаков». Однако исследования о традициях «эзопского языка», начиная с сатирической прозы конца XVIII в. до конца XIX — начала XX вв., и об их роли в булгаковском достаточно редки. Более того, несмотря на то, что писатель неоднократно и с гордостью говорил о своём долге по отношению к М.Е. Салтыкову- Щедрину, работ, посвящённых этой теме, крайне мало. «Странная» судьба у Булгакова. Его признательность Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Толстому принимается всеми, но при этом проблема того, чему и как учился у них писатель, хотя и поставлена, однако изучается не систематически.
Конечно, наша ослеплённость, по удачному выражению В. Лакшина, булгаковским «пиром воображения» при встрече с романом «Мастер и Маргарита», обладающим таким огромным очарованием, глубиной мысли и широтой культурных интересов, к тому же усиленная отсутствием точной информации о текстуальных и биографических координатах писателя, во многом провоцировала тот поток энтузиазма и фантазии «без берегов», благодаря которым сугубо личные впечатления и ничем не обоснованные гипотезы преподносились в качестве объективных литературоведческих «концепций». К сожалению, «радость текста» (так называется книга известного французского критика Р. Барта) подменяется подчас его «порабощением» в угоду тому, что итальянский критик Г. Альманси именует «интерпретативной похотливостью». И одной из причин критического «своеволия» является небезызвестный силлогизм, согласно которому, если определенный мотив или образ «Мастера и Маргариты» фигурирует в произведении «N», написанном раньше, то оно — это произведение — может считаться «источником» романа Булгакова.
Это не только не точно, но и вредно, поскольку позволяет свободному от ответственности критику «строить» свои «пазели» или, как в «lego», конструировать текстовые комбинации до бесконечности.
Такому критику достаточно перечитать стихотворение В.Ф. Ходасевича «Пилат» (1905), чтобы поместить его среди источников. Действительно, мотивы «покоя» («…меня покой не соблазнил»), «одиночества Пилата» («…единый в поле, на непреложном пути»), образы пятен крови, «неизгладимых в веках», финальное примирение с Христом — все может быть истолковано в качестве «интертекстуальных взаимосвязей» стихотворения и романа. Вместе с тем, это стихотворение Ходасевича было опубликовано впервые после смерти Булгакова, и, следовательно, оно не может быть и не является «источником» романа.
Подобная практика складывания источниковедческих «пасьянсов» особенно характерна при попытках дешифровки тайнописи романа (заранее оговорюсь: я глубоко убеждена в наличии зашифрованных ключей в романе Булгакова). Поиск этих «завуалированных» кодов приводил исследователей подчас к поразительным результатам. Но, к сожалению, они чаще всего свидетельствовали об изощрённости авторских хитросплетений, нежели о поиске обоснованных историко-литературных доказательств.
Конечно, если мигрень (от латинского слова «hemicrania» — «половина черепа»), от которой страдает Пилат, означает «раскол» на больную и здоровую части головы, то, по мнению Е. Малое, следует в этой мигрени усматривать намёк… на «противоречивую природу диктатуры пролетариата.
Другой исследователь, считая, по-видимому, что однофамильцу знаменитого композитора Берлиоза жить в Москве без его старшего товарища крайне неуютно, решил дешифрировать индекс дома № 302 — «бис» (т.е. второй) как акроним: «Бах Иоганн Себастиан».
Третий, исследуя повесть «Собачье сердце», усмотрел в названии улицы Пречистенка — намёк на Непорочное Зачатие, полностью игнорируя известные уже ко времени «дешифровки» автобиографические детали: во время работы над повестью М.А. Булгаков жил в Обуховом переулке, а по соседству — на Пречистенке — жил его дядя по материнской линии Николай Михайлович Покровский, послуживший писателю «прототипом» Филиппа Филипповича Преображенского.
К сожалению, подобный подход в истолковании творчества Булгакова широко распространён. В этом отношении особенно показательна «Булгаковская энциклопедия» Б. Соколова (1996), в которой наряду с ложными (а подчас и клеветническими) сведениями о родственниках писателя, присутствуют и заведомо «сфантазированные» источники произведений.
Не менее серьёзную опасность (в сравнении с интересом к тайнописи романа Булгакова) представляют и попытки использования понятий «миф», «мифология», «мифический» по отношению к художественным образам из «романа Мастера». При этом «мифотворческая» деятельность литературоведов, пишущих о фигуре Иешуа и оперирующих этими понятиями, охватывает множество планов — историографический, текстуально- экзегезный, идеологический и другие. Однако, выражение «христианский миф», ставшее столь расхожим в современном русском языке, благодаря в основном «государственному» в советскую эпоху атеизму (чего стоит, например, одно название всесоюзного журнала — «Безбожник»?!), исторически является отнюдь не нейтральным.
Еще в конце 30-х гг. XIX в. учёные тюбингенской школы предприняли постпросветительскую попытку объяснить происхождение христианства как мифа. К этой, так называемой «мифологической школе», принадлежал Давид Ф. Штраусс, автор известной книги «Жизнь Иисуса» (1835-1836). В конечном итоге, «мифологическая школа» пришла к полному отрицанию исторического существования Иисуса Христа. Эта «мифологическая» гипотеза в ее изначальном радикализме растеряла своих адептов. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений историческая достоверность личности Христа, тем более в свете последних археологических открытий и благодаря современной библейской экзегетике. Правда, некоторые учёные (Р. Бултман, например), употребляя понятие «миф», обычно используют этот термин в узком значении и соотносят его лишь с представленным в Новом Завете преданием об истории спасения, не касаясь археологически достоверной и, следовательно, исторически реальной личности Христа.
Широкую известность с 1910 г. получила и «школа истории религии», во главе которой стоял немецкий учёный Р. Рейтценштейн. Он объяснял происхождение христианства, предлагая аналогии с мифами о богах, которые воплощаются, умирают и воскресают во имя спасения людей, подчас смешивая разные элементы восточной и греко-римской культур.
Не менее ошибочно употреблять и понятия обеих школ при изучении мировоззрения писателя, независимо от того был ли он атеистом или верующим. И достаточно вспомнить хотя бы один отрывок из записных книжек писателя, чтобы отказаться от навязывания абсолютно чуждых для Булгакова представлений.
Напомню, что в 1925 г., писатель познакомился с атеистическим журналом, выходивший огромным тиражом, и записал в дневнике: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера журнала «Безбожник», был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально. Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья эта работа. Этому преступлению нет цены».
Несомненно, что разговор Берлиоза и Ивана Бездомного с Воландом о существовании Иисуса (первая глава романа «Никогда не разговаривайте с неизвестными») предполагает знакомство читателей или, по крайней мере, подписчиков атеистического журнала («Безбожник», «Наука и религия» и т.д.), с тезисами как «мифологической школы», так и «школы истории религии». Вместо этого критики, отбросив сатирический контекст изложения «научных» тезисов и характер не менее сатирического персонажа, излагающего их, не только воспользовались устаревшей терминологией, но и приписали эти тезисы Булгакову…
Подобный pastiche (франц.) гипотез о происхождении христианства обычно предстаёт в критических работах как знак жизнеспособности «памяти жанра» в романе. Однако, судя по материалам реконструкции библиотеки писателя, становится понятным, с какой «научной» точностью и аккуратностью работал писатель. Действительно, в его библиотеке находилась, по крайней мере, дюжина документальных и литературных произведений разной ориентации, посвящённых жизни Иисуса Христа, а также различные описания канонических и апокрифических евангелий.
Известен был писателю и труд французского историка христианства Э. Ренана «Жизнь Иисуса», который в противовес «научным школам» подчёркивали прежде всего историческую достоверность и человечность евангельского героя. Однако ставить знак равенства между художественным образом Иешуа Га-Ноцри и объектом историка (в историческом труде Иисус — просто реальное лицо, а у Булкагова он является проводником «ведомства» света), видимо, также не следует.
Пражский писатель Макс Брод в эпилоге романа «Мастер» («Der Meister», 1952), героя которого зовут, как и булгаковского, Иешуа, писал, что «настоящая книга намерена быть поэтическим произведением, а не работой с претензией на историческое или теологическое изложение».
Думается, что М. А. Булгаков мог сказать то же самое и о своей работе.
В 1930 г. в письме «К Правительству СССР» он заявил, что сжёг «черновик романа о дьяволе». Еще в мае 1937 г., до того, как было определено окончательное название романа (1938), E.С. Булгакова в своём дневнике называла его «романом о Христе и дьяволе».
Вместе с тем, ни изменение имени Христа, ни отказ следовать за событиями и действиями канонических евангелий не должно вменяться писателю в качестве «состава преступления» или же в аспекте создания современного «апокрифа», «евангелия» и т.д. В художественной структуре романа Иешуа и Воланд представлены как два разных тематических полюса: Иешуа Га-Ноцри является не только опровержением мнений и «мифов», но и представляет полюс света — полюс Божественный, в то время как Воланд является представителем другого полюса — дьявольского. Вот почему в качестве предназначения Иешуа в «романе о Христе и дьяволе» Булгаков избирает фундаментальное для христианства прощение грехов, следуя в этом как раз за христианской традицией, а не наоборот. Не случайно, в главе «Прощение и вечный приют» есть разъясняющие слова о Пилате — «прощённый в ночь на воскресение».
Функция Воланда в «Мастере и Маргарите» совершенно отлична от той, которую христианство приписывает Сатане.
И. Бэлза вполне справедливо считает, что Воланд в булгаковском романе, в отличие от Сатаны, является духом «возмездия, осуществляемого во имя справедливости». Поэтому, хотя Иешуа прощает Пилата, однако вина «прокуратора Иудеи» от этого не уменьшается. И во искупление вины Пилата именно Воланду поручено стать мстителем на земле.
В такой этико-философской концепции романа обыкновенная человеческая история Мастера и Маргариты (Weltgeschichte) пересекается с Божественной и сверхъестественной историей бродячего философа Иешуа Га- Ноцри и Воланда (Heilgeschichte).
STUDI SLAVI DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
THE CENTER FOR THE STUDY
OF SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM