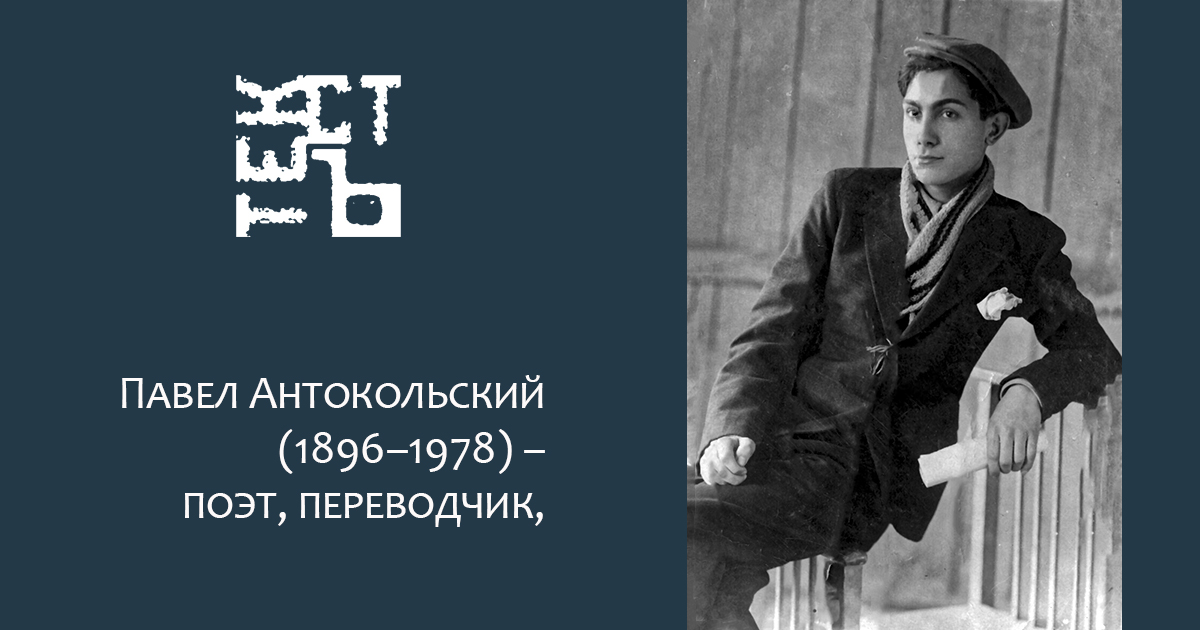Акварель Славы Семерикова
(ЛЮБОВЬ)
Она умела любить, как любят в большом кино
(это раньше читали мир, как роман),
на окно натягивалось накрахмаленное сукно,
получалось широкоформатно – во весь экран.
Иногда выходило вычурно и картинно,
реже – без звуковых эффектов и глянца,
то Eastman Color от Квентина Тарантино,
то сплошной апогей от неистовых итальянцев.
Любила по-разному – без имени и лица,
как мальчика, нежно, по-матерински,
или как дочь любит эрзац своего отца
(так Мастрояни любила Настасья Кински
в «Аттестате зрелости»), а когда пелена
случайно сползала с оконной рамы,
любила, как должна бы любить жена,
то есть скучно (здесь могла быть ваша реклама).
«Никакой вторичности!» – наставлял ее режиссер,
менял освещение, передвигал мебель и стены,
понимая, что если схлынет потоп, догорит костер,
героине придется сойти, наконец, со сцены.
Он чаще молчал, – то жестом, а то кивком
режиссируя, но обычно хватало взгляда,
чтобы она ходила по проволоке под потолком
(одомашненный вариант «La strada»).
Он останавливал фильм, отснятый почти на треть,
вырезал, монтировал, всё начинал сначала,
дубль за дублем, – но если просил ее умереть,
каждый раз неподражаемо умирала!
Он сворачивал декорации и выходил на свет,
вдалеке – животами на прутья ложились тучи,
и мечтал, что когда-нибудь она ему скажет «нет»
(как мечтали Поланский, Аллен и Бертолуччи).
* * *
Мелким шрифтом, четким и неброским,
желтые исписаны поля, –
это Бог выходит на подмостки,
как живой с живыми говоря.
Вывернуто небо наизнанку,
светятся распоротые швы,
облака обещанною манкой
сыплются в разинутые рвы.
Впереди чернеют перелески,
под ногами – шелуха и жмых,
пусть потом распишет Брунеллески
эту землю в ранах ножевых.
Нынче воздух выстиран и выжат,
в крестиках вороньего стежка.
Гул затих. Но кто почти не дышит
в глубине воздушного мешка,
тот блаженного не скажет слова,
не раскроет каверзную суть.
Богу Богово, тебе – такого,
чтобы губ уже не разомкнуть.
Кто по неразборчивым приметам
опознает прожитое мной?
Что еще вчера казалось светом,
оказалось мороком и тьмой.
Глядя на овраги да ухабы,
меркнет нестареющий старик:
знал бы наперед, переписал бы,
выбросил бы к черту черновик.
Я ведь тоже, Господи, такая,
исчерню тетрадь карандашом,
и хожу, от радости шальная,
думая, что это хорошо –
к ближнему лирическое рвение,
резкий всплеск, переходящий в плач.
Снова перечти стихотворение,
образы опять переиначь,
чтоб запел воздушный панегирик
в ветках олеандра соловей…
Бог уходит – так уходит лирик,
не принявший лирики своей.
* * *
Указующий жест вороного крыла,
петушка надцерковного флюгер –
и куда бы дорога тебя ни вела,
не меняется эта округа.
Впереди – передышка, бессрочный ночлег,
и ландшафт неказистее, строже,
а пока – абрикосовый катится снег
по зернистой асфальтовой коже.
Как закончится наша беда – города,
поезда отшумят бестолково,
так уйдем восвояси, поскольку тогда
замечтается счастья такого,
где бы старец, живущий в последней избе, –
балахон в алебастре и краске –
нам нашарил землицы в своем рукаве,
голубой, как сибирская хаски.
Стану деревом я, станешь деревом ты,
и впотьмах волоокого сада
замолчим – от великой своей простоты,
красоты неземного уклада.
Будет жарко меж ребер порхать шелкопряд,
заплетать золотые волокна,
мы телами – в коре от запястий до пят –
заслоним невысокие окна:
там глазастая рыба мелькает в котле,
там огниво еще не погасло,
чуть дрожит натюрморт на дубовом столе,
и на холст проливается масло.
ПОСЛЕДНЯЯ ПАСТОРАЛЬ
Закрыть ворон в окне, наперебой
по саду разносящих кривотолки,
открыть обман чернильною губой,
густым акрилом крашеные створки.
Там соловьи сзывают соловьих,
ползут мурашки по стеклянной коже,
чтоб здесь на терракоту губ моих
ложился букв коричневатый обжиг.
Колышется мангольдова ботва,
двоится пастушок в тяжелом взгляде,
и тянется коровья голова
от одиночества к незыблемой ограде.
Радетель ветер сносит на чердак
отживший хлам, кленовую посуду, –
мне безразлично, так или не так
на самом деле, – обманусь, покуда
на том краю, где колышки сосны
впиваются в небесную дорогу,
бессонные медведи-шатуны
ворочаются в каменных берлогах.
И я включаю голубой неон,
как будто небо – вывеска и только,
как будто новоселье у ворон,
точнее, свадьба. Горько, горько, горько
молчит на ветке глянцевый щегол –
мне кажется, я слышу, как он дышит,
пока ворона клювом первый кол
старательно вколачивает в крышу.