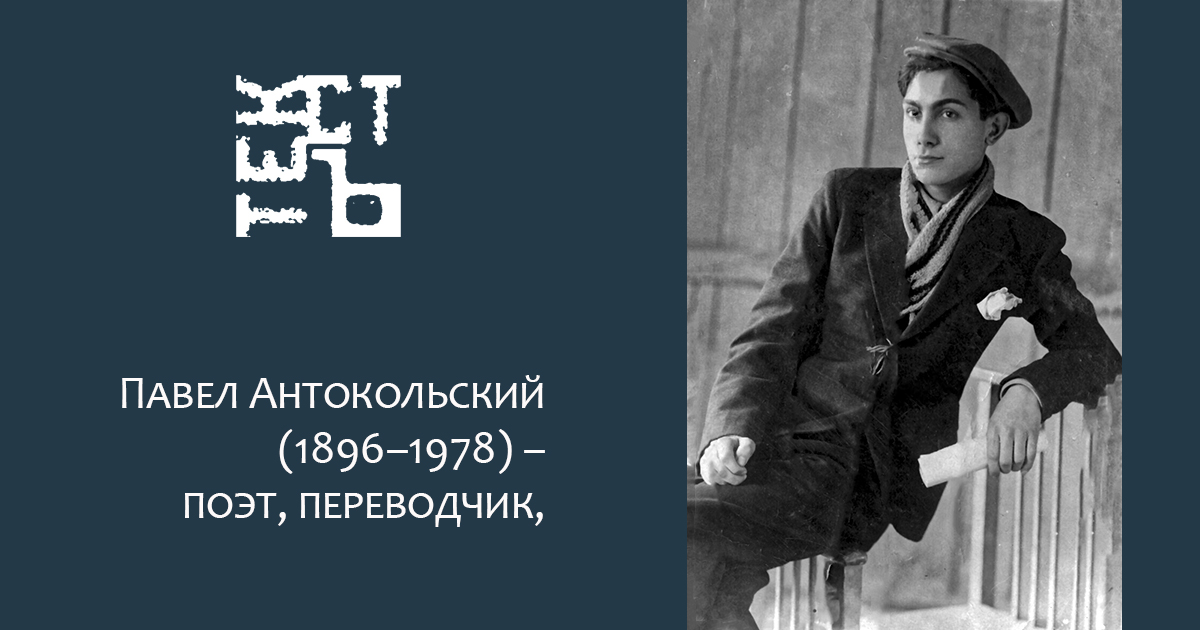К. Калинович. Конец Зимнего праздника.
ТЕОРИЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
В коридоре остывает пальто,
шарф на вешалке обмяк, облетел,
и под вечер растворится в ничто
по теории невидимых тел.
Дети обручи катают, в круги
обрамляя лысеющий склон,
но врывается ветер с реки
и детей обращает в ворон.
Там, где в небо вот такой вышины
дом-скворечник из бетона пророс,
гладкоперые шумят пацаны,
ловят бабочек, блестянок, стрекоз.
Проходя через двор до угла,
пешеходы превращаются в птиц,
я бы в стае затеряться могла
по теории забытых вещиц.
Я бы крошками сорила в порту,
из ладоней бы клевала зерно,
подминая под себя пустоту,
за речное зацепилась бы дно.
Но небрежный чародей-стеклодув,
выдувающий людей-лебедей,
поскупился на оранжевый клюв
по теории излишних затей.
Поднимаются тысячи лун
по-над гнездами слепых этажей,
засыпает изощренный колдун,
целовальщик изогнутых шей.
В этом городе пернатых невест
он по-прежнему один и ничей –
по теории насиженных мест
и на практике холодных ночей.
Точка света на его рукаве
угасает, истощен фитилек,
как Летучий Голландец в листве,
целлофановый порхает кулек.
* * *
Где тот январь, где холодок хваленый,
какой синоптик жмет на тормоза?
Под белым цветом мается зеленый,
и от ворон шарахаются клены,
зажмуривая мокрые глаза.
В затопленных окопах вдоль дороги
плывут по дну пустые челноки,
знакомый вяз, сухой и колченогий,
мне под ноги бросает некрологи,
написанные наспех от руки.
По-люксембургски или по-немецки –
достать средневековые рожки,
нахмуриться и пить глинтвейн соседский,
пока пускает мальчик деревенский
по вывескам стеклянные снежки.
Антеннами прощупывая воду,
дом-сом глядит замыленным глазком,
к нему дорога – пень через колоду,
но кто-то здесь бродил, не зная броду,
кромсая лед бездушным каблуком.
И я пройду – сквозь лес, через границу,
как нить в ушко, как веточка в петлицу
сиреневая – этой ли зиме
повелевать, где реять, где гнездиться,
в каких грехах расписываться мне!
Ложится снег – на плечи, на глаза мне,
но вижу, как в задымленном окне,
хватая соль свинцовыми губами,
крестясь, старуха закрывает ставни
и пропадает в световом огне.
О, бытие на праздники скупое,
мне не страшна глухая сторона –
колодец, тын, телега на простое,
Бабаево, а может, Бологое –
какой Адам давал вам имена?
Не тот ли мальчуган в крапленой шапке,
с костлявым чудом веточек в руках,
субтильный светомир на трех китах, –
он тоже нынче ощущает страх
и что-то видит в костяной охапке.
* * *
Зелено-синий лед, аквамарин
аквариумных стекол – еле-еле
свет теплился, как будто карантин
вот-вот, а там, гляди, до именин
или до праздников от силы две недели.
Нам грезилась наживка в темноте,
на окнах сети, снасти на обоях,
линолеума ржавая вода,
и островок в стеклянном животе,
как маятник – туда, сюда, туда, –
нас медленно раскачивал обоих.
А в центре города, на площади Трески,
без остановки – влево, вправо, влево –
в ворота тыкались слепые косяки,
пока стреляли дверью сквозняки
и форточки распахивали зевы.
На площади всего красней земля –
не разглядеть в клубах песочной пыли,
кто шел на дно, чешуйками искря,
и как легко ловились на червя
диковинные карпы золотые.
Посверкивая лезвиями спин,
расплескивая островную тайну,
чужие рыбы проникали в спальню,
выталкивая жабрами сардин
консервный воздух банки коммунальной.
Тряси хоть кулаком, хоть плавником,
гордясь, что, мол, в семье, не без урода,
живи небрежно, на шаляй-валяй,
погибнешь от избытка кислорода,
хоть сколько про себя ни повторяй:
«свобода есть свобода есть свобода».
Еще гнусавил кухонный гобой,
звенели чашки, бряцали кастрюли,
мои «люблю» на нерест чередой
упрямо шли и погибали всуе,
но проявлялся над твоей губой
стальной крючок, как след от поцелуя.
* * *
Пусть нет меня, но я тебя люблю.
И в этом нет ни пользы, ни отваги,
как муравей, по земляной бумаге
тащу тростинку… Так по ноябрю
несли когда-то баннеры и флаги
преемники рабочих и крестьян,
окаменевших в ожиданье птички, –
фотограф мертв или мертвецки пьян.
Да и моя любовь к тебе – изъян,
как курево и прочие привычки.
Туманом занавесив образа,
потомки декабрей и революций
шли против зла, но оказавшись «за»,
мы отводили кроткие глаза,
багровые, как чашечки настурций.
Теперь в огнеустойчивом лесу
таскаю стебли до седьмого пота,
и под ноги смотрю, и стрекозу
уже не отличу от вертолета,
и знаю, что на нашем общем фото
я – пятнышко, бельмо в твоем глазу.
Дождь-синтезатор – словно звук сверла,
но вдруг звонят светло и беспричинно
сосновые твои колокола –
от дальнего до ближнего ствола, –
отчиз… нет, род… нет, всё же батькiвщина.
Ищи-свищи, поди меня найди.
Я поняла, что рвется там, где звонко,
что motherland маячит впереди,
а колющая звездочка в груди –
совсем не та, что грела октябренка.
* * *
…отравленное зеркало мое.
Александр Кабанов
Райок закрыт. Не будет благодати.
Монтер по пьяни перерезал свет.
Уснул малыш в игрушечной кровати,
зажав в руке хрустальный пистолет.
Дверь заперев, дитя проверив в детской,
уснула мать в носках и бигуди,
и браунинг, воистину богемский,
блестит на остывающей груди.
Осоловев от духоты и лени,
забылись псы в объятиях двора.
И только мертвым не до сновидений –
что им Гекуба? Здесь – своя игра.
То лодочками складывают руки,
так, будто наземь проливают грусть,
то странные перевирают звуки:
боюсь тебя, люблю тебя, боюсь…
Они ведь тоже умирали, лишь бы
смола любви по донышку текла,
и прикрывали лубяные избы
телами из невзрачного стекла.
Уснул отец, пустой, как поллитровка, –
так неудобно спать на животе! –
но греет бок хрустальная винтовка,
посверкивая дулом в темноте.
И что-то есть в незащищенных, пьяных,
мертвецких снах – нахрапом, вкривь и вкось –
от хрупкости: ты потому стеклянно,
чтоб мы могли любить тебя насквозь,
чтоб к полночи, окаменев над спальней,
луна к дуге приладила копье.
И нет тебя ранимей и хрустальней,
нагое безотечество мое.