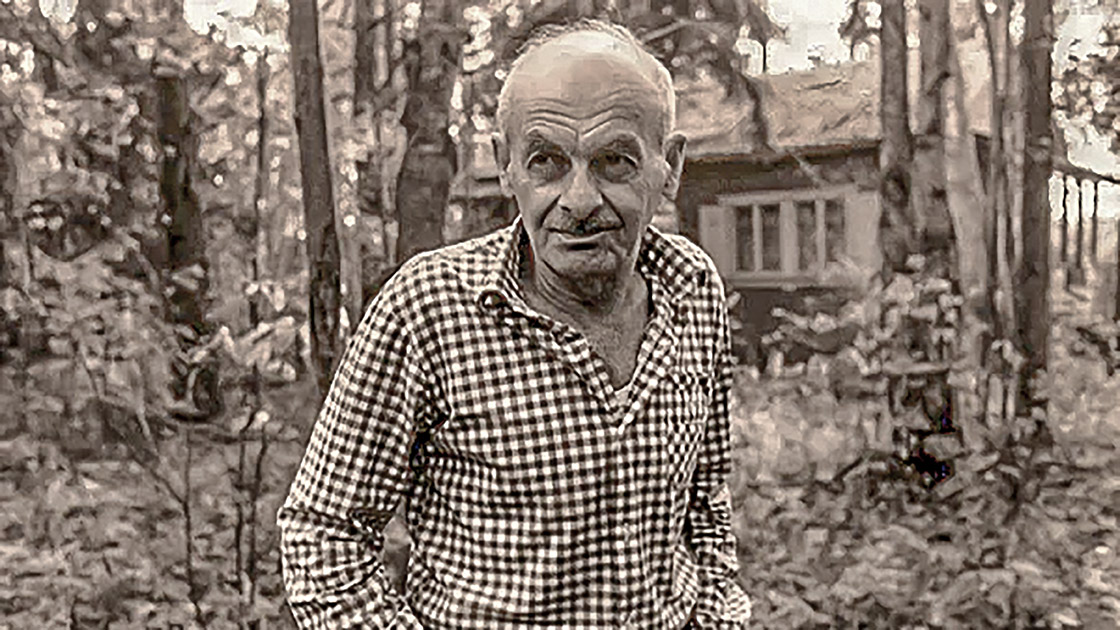Акафист пошлости

Лицедеи
Меня волновала и до сих пор волнует психология отречения, психология слабости не только внешней (неспособности сопротивляться давлению), но слабости внутренней, податливости ежедневным мелким искушениям казаться, а не быть. Тип пошлого героя не исчез. Напротив, гласность чрезвычайно способствует его склонности петушиться, раздуваться, как воздушный шар, и воспоминания о диссидентах, согласившихся на публичное покаяние в 70—80-е годы, помогает понять, как легко такие шарики лопаются.
Пошлость — огромная сила. Она нелицеприятно заключает в свои объятия и глазуновских святых, одетых в свои венчики, и очаровательных женщин, повернувших к публике свои обнаженные натуры. Современная цивилизация так сложна, так богата возможностями, что очень трудно быть самим собой. Неудобно не быть демократом (когда демократия в моде), неудобно не восхищаться Шнитке или Тарковским. И пошлое делание «быть на уровне» заставляет человека играть роль, лицедействовать. Пошлость — плата за прогресс. Грубоватые деревенские лица не фальшивят, не лицедействуют. Они выражают то, что есть (усталость, желание поужинать и т. п.); на них нет дешевой косметики чего-то туманно возвышенного. Нет лицедейства.
Я прошу извинения у актеров за свою метафору. Я не хочу сказать, что все актеры — лицедеи. В исполнении роли может быть и суд над этой ролью, в котором сказывается подлинное лицо. Но профессия прямо требует от актера вжиться в личину, которую надел; и соблазн подмостков, рампы, аплодисментов — более непосредственный, чем у пишущей братии. Он сравним, пожалуй, только с искушениями митингового оратора. Актеру и оратору труднее, чем кабинетному ученому, забыть о зрительном зале, о 50 000 000 зрителей телевидения. Грешат полуискренностью почти все, кто выходят на подмостки, на эстраду, на трибуну; но слово «лицедей» собственно и значит — актер, только с отрицательной нравственной характеристикой его ремесла (так же, как самовластие — то же самодержавие, но с точки зрения возмущенного им сознания).
С середины шестидесятых годов литература перестала быть единственным выражением общественного сознания. Начались движения: демократическое, правозащитное, национальное, религиозное… И сразу появились правозащитные лицедеи, церковные лицедеи… Сейчас, в эпоху гласности, лицедейство распространилось, как эпидемия. Лицедей следует за истинным деятелем, как тень. Плохих лицедеев легко раскусить, но есть лицедеи хорошие, отличные. Опыт обогатил нас целым паноптикумом мнимых героев. И в спектаклях, которые они перед нами разыгрывают, любая идея превращается в заигранную патефонную пластинку. Стало невозможным писать о Сталине, геноциде,— эта тема опошлена. Скоро будет немыслимо говорить о Ленине. Нам нужно усилие, чтобы «вылезти из ямы, чтобы выстоять против течения, несущего в море крови (не знаю, которая метафора лучше). Но говорить о нравственном усилии трудно. Все опошлено.
Пошлость
Пошлость — решающее слово нашего времени. Имя пошлости — Легион. Есть пошлость либеральная, пошлость марксистская, пошлость христианская (недавно я прочитал, что об этом уже думал — и писал — В. В. Розанов).
Пошлость — слово русское, не вполне переводимое, европейской наукой не отшлифованное. Объяснить его трудно. Где-то по соседству с пошлостью низость, но низость — непременный минус, а пошлость — скорее нуль. Точнее: нуль личности. Потеря родовых образцов, обычаев (которые задают направление жизни) и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина. Отсюда — неуверенность и наглость (смирение Опискина, храбрость Грушницкого). Отсюда влечение к эффектной позе и культ героя сиюминутной прозы, власть пустого времени, моды. Пошлость тянется к позе бытия — и тотчас облепляет его, опошляет (даже если это бытие — не только поза: пошлое обожание знаменитостей, пошлая образованность, пошлая церковность). Пошлость приходит в восторг и исступление, когда находит саму себя, одаренную харизмой (наверное, дьявольской). Я помню речь Гитлера (слышал по радио в 1940 году, заклятых друзей не глушили). Какие ничтожные аргументы! Какие дешевые приемы! Сгореть бы от стыда, если хоть раз пробьется такая интонация! Но как подвывала этому шуту восторженная толпа, бывший народ Гёте, Шиллера, Канта…
«Рабство готово улечься на брюхо перед мертвым диктатором, как лежало перед живым»,— писал Б. Хазанов.— «Рабству хочется уверить всех, что сапоги, которые оно лизало, были все-таки сапоги гиганта. Мы часто, слишком часто слышали утверждение, что Гитлер и Джугашвили, «как бы они ни были плохи»,— великие люди, иначе-де они не смогли бы вознестись до таких высот. Простой анализ механизмов выдвижения подобных личностей показывает, что, напротив, нравственное и духовное убожество как раз и было необходимым условием выдвижения. В этом-то и состояло величайшее унижение нашего времени, что на ролях всесветных вершителей… в нашем веке подвизались ничтожества» (из «Писем без штемпеля») (1)
Душа, не чувствующая пошлости, создает темное облако, в котором выстраивается сказочный дворец культуры (Сталина, Гитлера, Хомейни). Пошлость может сохранить свободные учреждения только по инерции. Ей нужен вождь, дуче, фюрер. Ей нужен Великий Инквизитор, а не Христос. И если вся наша цивилизация обрушится, то в яму пошлости (строим большую вавилонскую яму, — говорил мой приятель). Яма растет со всех сторон, на всех континентах. Запад сохранил еще привилегию личности тявкать на пропасть, у нас и это было не дозволено, Мы были обязаны сползать по наклонной плоскости, сохраняя бодрую советскую улыбку. Отказ повторить пошлость — государственное преступление. Что же означало у нас раскаяние государственного преступника? Акафист пошлости.
Волна и пена
Там, где развитие было стремительным, как в России и других не западных странах, разрыв между требованиями, предъявляемыми личности, и ее действительной силой был особенно велик. Там разрушение предписанных образцов имело катастрофические последствия, дало катастрофический рост пошлости (и ее брата — хамства). Иногда эти цифры, если бы удалось их сосчитать, могли бы приблизиться к квадрату скорости развития. Разумеется, это — интуитивная оценка.
И все же ни одна волна истории не сводится к пошлости и хамству. Полные тщеславия, торопясь себя показать, даже с риском свернуть себе шею, наглые пошляки забегают вперед и захватывают место героев одного дня. Но часто ненадолго. Так нигилисты шестидесятых годов и нечаевцы опередили жертвенное поколение семидесятников. Так Якир и Красин выскочили впереди А. Д. Сахарова. Так выдвинулись вперед и покрасовались православные шуты. Гнойник в православном лагере оказался сегодня побольше, чем в либеральном, потому что либеральное движение сегодня не в моде и пошлость, льнущая к моде, отхлынула от него. Людей колеблющихся, слабых, тщеславных, с неудержимым зудом писать, в либеральном движении меньше. Остались люди потвёрже, посамостоятельнее, показательного выступления по телевизору от них добиться трудно.
А где мода, там и пошлость. Это не черта православия и не черта либерализма; это черта моды.
Волны западничества и почвенничества сменяют друг друга в России, как утро и вечер. И каждая волна несет пену. Но в каждой волне не только пена. Западничество право, указывая на потерю лица в диалоге с прошлым. Почвенничество право, указывая на потерю лица в диалоге с современностью. Личность формируется в смене исторических испытаний, в смене одной ответственности другой, еще более тяжкой. А безличность шумно пузырится на поверхности.
В разных углах идут одновременно как бы два процесса. В одном углу предательство — смертнейший грех. А в другом человек предал, съел слоеный пирожок и утешился. В одном углу складывается одиннадцатая заповедь: не предай! А в другом шевелятся разнообразные попытки оправдать Иуду. Тем что без воли Всевышнего и волос не упадет с головы. Или тем, что Иисус Христос принял на себя все наши грехи. Или еще что-нибудь.
_________________________________________________
1 Впрочем, мне кажется, что эти духовные ничтожества обладали своего рода гениальностью интриги. — Г. П.
Между пошлостью и хамством
Я обмолвился, что пошлость — сестра хамства. И сразу вопрос: почему? Потому что происходят они от одних и тех же родителей — от одних и тех же обстоятельств. Начало пошлости и начало хамства — потеря предписанных норм и неумение приобрести новые, внутренние нормы. Пошлость приспосабливается к прогрессу, выдает себя за то, чего ей не хватает. Хамство откровенно бунтует. Но генеалогия у них сходная.
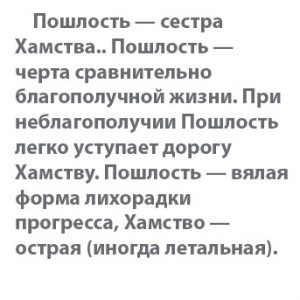
Одна из тенденций исторического процесса — движение от племенной и сословной индивидуальности к личности, определяющей себя целиком изнутри, к «сильно развитой личности» (Достоевский). Но личность складывается медленно, а пошлость и хамство — как автомобили с конвейера. Если прогресс идет сравнительно гладко, индивидуальность всего только пошлеет. Если коряво — больше прорывается хамство. Модель нарисована М. Цветаевой в «Крысолове». Господство пошлости — Гаммельн. Хамство обрушивается в переполненные закрома, как нашествие крыс. Пошлость — черта сравнительно благополучной жизни. При неблагополучии пошлость легко уступает дорогу хамству. Пошлость — вялая форма лихорадки прогресса, хамство — острая (иногда летальная) форма. В некоторых странах гаммельнское и крысиное чередуются, как день и ночь (взрыв тридцатилетней войны, два века мещанства, взрыв имперского шовинизма, Веймар, Гитлер, ФРГ). Пошлость сравнительно миролюбива и допускает развитие гения (Веймар Гёте и Веймар братьев Манн), по мере сил опошляя его. Хамство вырезает Цицерону язык (2). Но выбор между пошлостью и хамством — ложный выбор. Пошлость не спасает от хамства, так же как хамство не спасает от пошлости. Пошлость — мнимая стабильность, хамство — мнимый динамизм (мы к этому обстоятельству еще вернемся).
Пошлость комфортабельнее. Это болезнь, с которой можно ездить на курорты… Так болеют цивилизованные люди. Не то что дикари, вымирающие целыми деревнями от туберкулеза или сифилиса. И все же болезнь остается болезнью и подтачивает организм. Глядя, на корчи России или Китая, Запад видит не только свое прошлое (отсталость, слаборазвитость), но и свою агонию, свое возможное будущее. Видит своих бесов, как в гипертрофирующем зеркале романа Достоевского. В конечном счете различия между странами условны и недолговечны. Общая катастрофа может все сравнять.
Запад играл первую скрипку в распространении прогресса. А сейчас Восток первенствует в распространении кризиса прогресса. Этот кризис обостряет все болезни западного происхождения и прибавляет к общему чувству бездомности, затерянности, утраты лица, захлебывания в сверхзвуковых и сверхмыслимых темпах (3) еще одну особенную, незападную болезнь: чувство неловкости в чужом культурном кругу. Отсюда два синдрома (западнический и почвеннический), две болезненные односторонности мысли. И западники, и почвенники говорят о потере лица, и они правы. Но в своих рецептах врачи расходятся. Западники предлагают найти лицо в современном окружении, почвенники — в собственном прошлом. Те и другие как-то упускают из виду, что культура живет на перекрестке, в одновременном диалоге с прошлым и современным окружением, что и прошлое, и окружающее — не свое, а только могут стать почвой, опорой первого лица, Я, совершающего выбор, что потонуть в прошлом — значит потерять себя так же, как уйдя с головой в современность.
Диалог требует двух лиц: Я и ТЫ. Не может быть диалога, если нет первого лица, нет его оценки, выбора, решимости. Безупречное ТЫ поглощает Я и становится ложным подобием Бога, кумиром, перед которым в прахе распростерто рабство (прогрессу или почве). Живое Я опирается на свое прошлое и никому не рабствует. Жизнь культуры — это постоянное чувство напряжения, созданное вторжением чужого и отчуждением каких-то слоев прошлого, это поиски нового в старом и своего в чужом.
При медленном развитии повороты истории ощущают только немногие; они и мучаются, и вырабатывают ответ на вызов; мучается Пьер Безухов, Андрей Болконский, а Ростовы не мучаются. Но при ускоренном развитии нельзя не заметить сдвигов. История входит в частную жизнь и требует от маленьких людей того, что и большим трудно решить: решить, что здесь, теперь, хорошо и что плохо.
Как из этого положения вышел Запад? Достиг ли он уровня «сильно развитой личности» (как ее определял Достоевский)? Конечно, нет, если не говорить о единицах: о Кьеркегоре, о Швейцере, о Симоне Вейль… Только очень немногие — где бы то ни было — держат в собственном сердце своего Бога, и в эту глубину, в эту почву пускают свои корни. Только совсем немногие умеют решать, когда суббота для человека, а когда человек для субботы. У этих единиц нерушимая почва в духе, и сам дух становится основанием их свободной, разумной, нравственной и прекрасной жизни. Таких людей на Западе не больше, чем на Востоке. Даже меньше (я попытаюсь объяснить, почему). Но выше средний уровень. Есть какой-то прожиточный минимум личностного развития, способности решать, без которого парламентские и другие механизмы свободного мира не могут работать, разваливаются (как в большинстве цветных колоний, которым англичане, уходя, оставили на пробу парламент).
Нельзя освободить слаборазвитую личность. Сколько бы ни выстроить электростанций, заводов, дорог, слаборазвитая личность не выдерживает свободы, отказывается от нее, приносит ее в дар Великому Инквизитору. Легенду о Великом Инквизиторе создал не англичанин, не француз, даже не испанец, а русский — Федор Михайлович Достоевский. Он чувствовал вокруг себя ауру незавершенных, шатких, не подготовленных к свободе душ. Отчего они такие, кто их испортил, можно спорить (и даже приписывать все зло жидомасонам), но факт сам по себе неопровержим. На Западе средний человек покрепче.
Теперь разберемся, почему. Напомню еще раз, что развитие цивилизации расшатывает табу, заповеди, предписания. И вот на одном полюсе складывается личность, которая постигла дух заповедей, держит закон в сердце и может найти выношенный в сердце ответ на каждый вызов, а с другой стороны — пошлость и хамство. Происходит что- то вроде преломления луча или (более грубая модель) перегонки нефти. Вверх бензин, вниз мазут. Есть народы, совсем мало преломленные, в них господствует белый свет. До тех пор, пока это так, они остаются на периферии истории. Есть народы, умеренно преломленные (или перегнанные). Крайности в них не слишком далеко разошлись, остались рациональными (например, типы фанатического аскета и жизнерадостного скептика во Франции), не дошли до бездны иррационального (как самодур и юродивый в России). Такие народы здоровее, жизнеспособнее. Один англичанин — сплин (шутили в тридцатые годы), два англичанина — бокс, три англичанина — парламент, много англичан — цивилизация, то есть один англичанин не Бог весь что, но много англичан — цивилизация.
А есть народы, слишком сильно перегнанные, поражающие то сияющей высотой, то мерзостью. Это мутанты истории, в них возникают новые духовные движения, но плоды движений пожинают другие, а сами мутанты теряют равновесие и проваливаются в бездны, которым слишком открыты.
Состояние мутанта нестабильно, и время от времени побеждает порыв к здравому смыслу и золотой середине. Но даже в золотой середине мутанты перебарщивают, и выходит эта середина неустойчивой (как состояние еврейства в земле обетованной, как гаммельнское в Германии). Мутант даже в состоянии антимутантности остается мутантом. У него другое чувство формы, чем у народов подлинно золотой середины. Бездна не вне этой формы, а внутри; от нее никуда нельзя деться.
Противоречия между народами вне бездны и народами с бездной внутри глубже и фундаментальнее, чем споры диаспоры и земли. Запада и Востока. Но ядро Запада — это народы, сдвинутые к золотой середине (англичане, французы, голландцы). Если они чем грешат, то не чрезмерной ангеличностью или демонизмом. По классификации Эдвина Рейшауэра, Германия — вне ядра Запада, это переходный тип. В некоторых случаях ее можно отнести к «правильным» (устойчивым, умеренном) нациям, в других — к мутантам. Трагизм ее истории иногда напоминает библейский. К мутантам, бесспорно, принадлежит Россия, в известном смысле — Индия (хотя ее история скорее мистерия, чем трагедия)(4).
__________________________________________
2 См. рассуждения Шигалева в «Бесах» Достоевского.
3 «Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность…» (Р. М. Рильке).
4 Индия не получила ничего доброго от того, что колесо дхармы докатилось до Японии; но, кажется, и ничего худого. Как неподвижный двигатель, Индия осталась в какой-то мере вне истории.
От евреев пришел свет в усредненный Рим, и Рим, подхватив фонарь апостолов, начал новую жизнь, а евреям досталось разрушение храма; Лютер начал реформацию: плоды ее победы пожали англичане, голландцы, скандинавы; немцам — Тридцатилетняя война. Очень может быть, что классическая русская литература пролила новый свет миру; но жизнь в России от этого не стала лучше (5). Великие вспышки света, рождаясь в нестабильности, увеличивают эту нестабильность, доводят ее до катастрофы…
Увы, география духовных глубин совпадает с географией мерзости. Где чистая духовность Нагорной проповеди, там и грязная суета рынка. Где Иисус, там Иуда; где Экхарт и Бах, там Гитлер и Гиммлер. Где Мышкин, там Смердяков. Образцовые нации не доходят до такой мерзости, как нации-мутанты. Но без духовных вершин, подымающихся рядом с черными ямами, нельзя было бы построить нашу общую культуру. Время от времени нужен «свет с Востока». Дело «Востока» (т. е. мутантов) — выдвигать духовных гениев, а дело «Запада» (образцовых, уравновешенных наций) что-то из опыта гениев вносить в повседневную жизнь, усреднить, довести до среднего человека и распространить по всему миру, как закон. Сейчас, по-видимому, Запад нуждается в новой позиции света с Востока; а Восток — в новой волне вестернизации…
Мутанты сами по себе никогда не станут вождями человечества. Им не хватает равновесия. Их история — это история смут, тридцатилетних войн. Не дай Бог втянуть в этот хаос весь мир! Ошибка почвенников не в том, что Россия может рождать свет (может!), а в переоценке русской способности просветить среднего человека и создать светлый порядок. В самой России Мышкины и Безуховы слишком исключительны. Их реже можно встретить, чем Пиквиков в Англии; а Смердяковых — хоть пруд пруди.
Мутантам все время грозит падение, развал, разгул хамства; уравновешенным нациям — банальность, стереотипность. Поэт — не с гаммельнцами и не с крысами. Поэт — с Крысоловом.
Но, к несчастью, в жизни все перепутывается. И поэт может оказаться с гаммельнцами, как Бунин, и с крысами, как Маяковский.
В охране культуры есть опасность защиты опошленного, ждущего ломки. А в новаторстве часто проступает хамство. Пошлость хрюкает в разносной рецензии замоскворецкого жителя на «Руслана и Людмилу», в статье Романа Гуля «Прогулки Пушкина с хамом». Хамство прорывается в антикультурных страницах Льва Толстого. Маяковский — и новатор в желтой кофте хама («я сразу смазал карту будня»), и хам в облике новатора («пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!»). Мы слишком хорошо помним, как реализовывались эти метафоры…
Мой бывший оппонент М. А. Лифшиц, видимо, очень остро чувствовал заряд хамства в новаторском искусстве. Но, к сожалению, он не учитывал, что зализанное, стереотипное, банальное, пошлое порождает взрыв хамства гораздо прямее, чем проповедь взрыва. Искусство вообще опасно. Искусство при свете совести — вечно больной вопрос. Не только для Цветаевой, для всех.
В 1965 году, споря с Лифшицем, я настаивал, что идеи модерна сами по себе не хороши и не дурны. Все зависит от того, как их интерпретировать. В интеллигентной голове новаторская идея обнаруживает свою плодотворность, а хам превратит во что-то чудовищное любую идею. Мне возражали: в том числе непротивление злу насилием? Споры заставили меня признать, что известные комплексы идей более взрывоопасны, чем другие. Что научная идеология легче может быть использована во вред, чем религиозная. И все же только легче. Если шатание. умов очень велико, то взрыв может произойти и от искры черносотенной религиозности… Так не случилось в России, но именно так случилось в Иране.
Хамство возникает всюду, где норма расшатана и опошлена. Хам на первый взгляд древнее пошлости, но, может быть, его только легче разглядеть, а пошлость, пока она не разрослась, незаметна и долгие века могла действовать потихоньку, не обращая на себя внимания.
Хама сразу запомнили и встроили в миф. Пошлость осталась без имени собственного. Мне хочется исправить эту историческую несправедливость. Может быть, у Сима, Хама и Яфета была еще такая незаметная сестра — пошлость? Может быть, почтительность Сима и Яфета немного опошлилась, и Хам был своего рода сердитым молодым человеком, новым левым, Владимиром Маяковским, восставшим против опошленного старого символизма? Без опошления норм мне трудно представить себе взрыв хамства. Без опошления Веймарской свободы я не могу себе представить поэта, сочинившего песню штурмовиков «Дрожат старые кости». У этого несчастного человека быстро наступило разочарование. Хамство не было его родной стихией. Тем более знаменательно, что оно захватило его. Или что Блок, который не был хамом, писал (чувствуя диктовку гения, водившего его пером):
Уж я ножичком
Полосну, полосну…
Без господства безличности, гениально описанной Хайдеггером, я не могу себе представить преклонения Хайдеггера перед Гитлером. Без превращения всех идей и ценностей в заигранные патефонные пластинки не могу себе представить нынешний взрыв террора.
Истина сперва становится банальной, стирается, как монета, долго ходившая по рукам. Еще можно разглядеть, где орел, где решка и чего монета стоит. Стершиеся две копейки стоят не меньше, чем новенькие. 2x2=4 остается истиной. Не сотвори прелюбы остается истиной. Но потерян внутренний смысл: не давай полу власти над умом, минуя сердце. Держи Бога в сердце и сердце в Боге. Держи невесту в сердце, как образ Божий… Осталось предписание, на которое сердце перестало откликаться. Монета стерлась, не видно ни орла, ни решки. Безличность, пошлость. И поэзия восстает против пошлости.
Ах, Господи, если бы Хам от рождения был черным! Но от рождения он бел и только постепенно чернеет. Хам — сын беззаботного пьяницы, забывшего, что истины надо рождать заново, не надеяться, что они и без нас пребудут. Без нас, если не перечеканивать монету, все сотрется. Все станет сперва банальным, потом пошлым — и откроется дорога хамству. Одна из самых важных задач воспитания — обновлять заповеди, рождать заново «не убий», «не лжесвидетельствуй», «не предай»…
Пошлость и хамство — цена за взрывное развитие личности. За философию Сократа. За речи Демосфена. Личностью становятся единицы, хамами — десятки, пошляками — сотни. И в конце концов пошляки попадают под власть хамов и создают культ величайших, гениальнейших хамов. В свободных странах пошляки обожают певцов и кинозвезд. В тоталитарных они обожают своего дуче, вождя, фюрера.
На Западе опошленная добропорядочность еще удерживает взрыв хамства. На Востоке — непобедимый блок пошлости и хамства. А личность? Личность всюду в обороне; и едва хватает сил сопротивляться. Стоит ли игра свеч? Держать ли нам еще знамя свободной личности или бросить под ноги победителям? Где гарантии, что общая свобода не приведет к новым взрывам низких страстей, что чувство ответственности вдруг вырастет, расширится и все спасет? Что новый шаг вперед ничтожно малой кучки не вызовет новых неожиданных последствий похуже прежних?
Остается одно — верить. И я верю, что сильно развитая личность стоит выше всех издержек, что она сама — смысл и свет. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.
1981—1990
____________________________________________
5 Достоевского называют пророком русской революции. В некоторых революционных кругах им зачитывались. Толстого любил Ленин и прямо продолжал «срывание всех и всяческих масок». По отношению к Западу, либерализму, прогрессу оба величайших русских писателя действительно были нигилистами и сознательно подрывали почву западной традиции, в которую неловко пускала корни петербургская Россия. Русская литература и русская критика сыграли свою роль в крахе русской свободы.