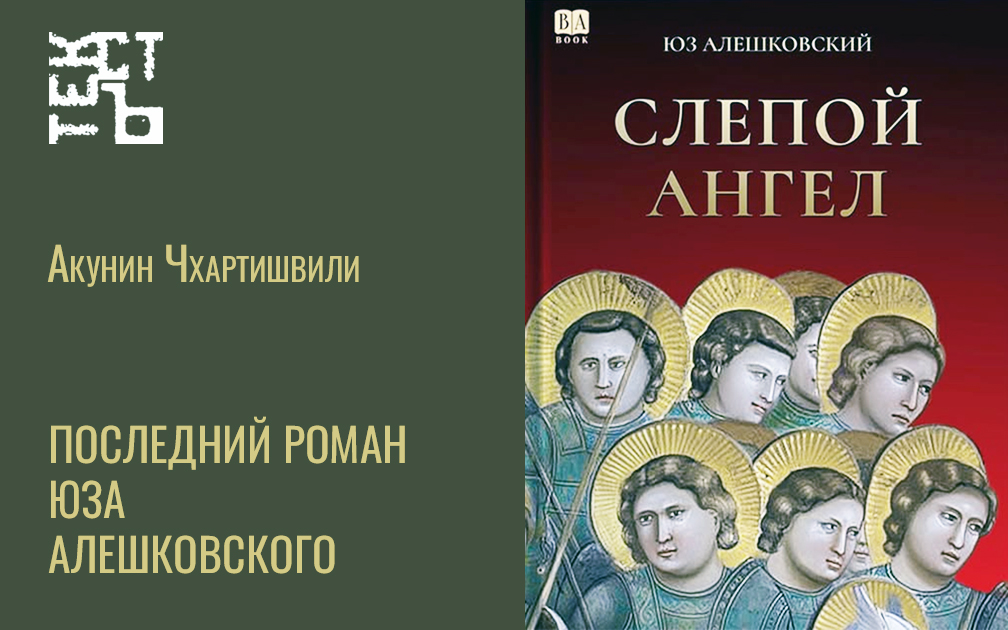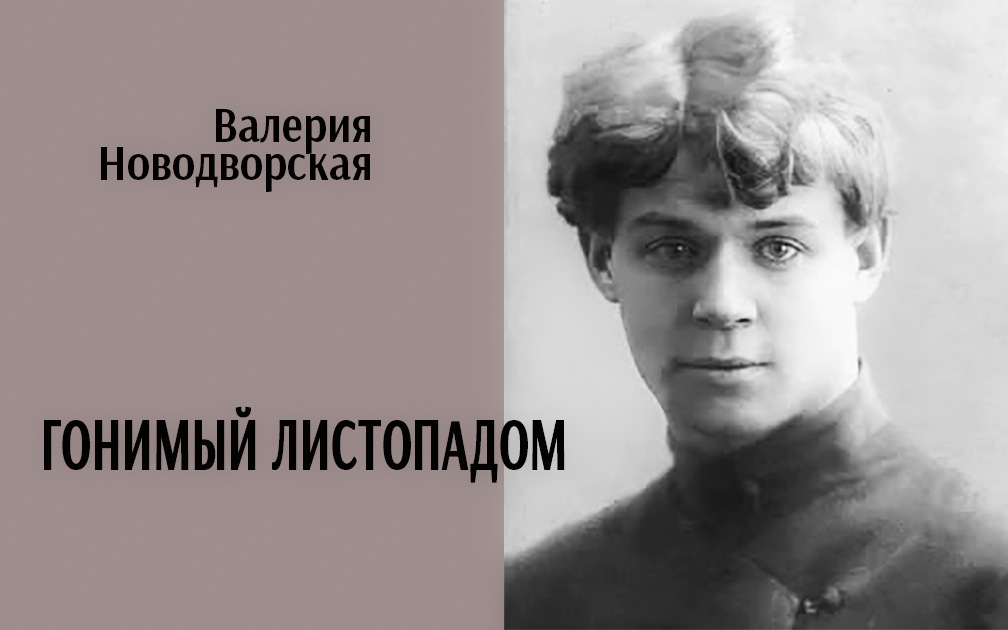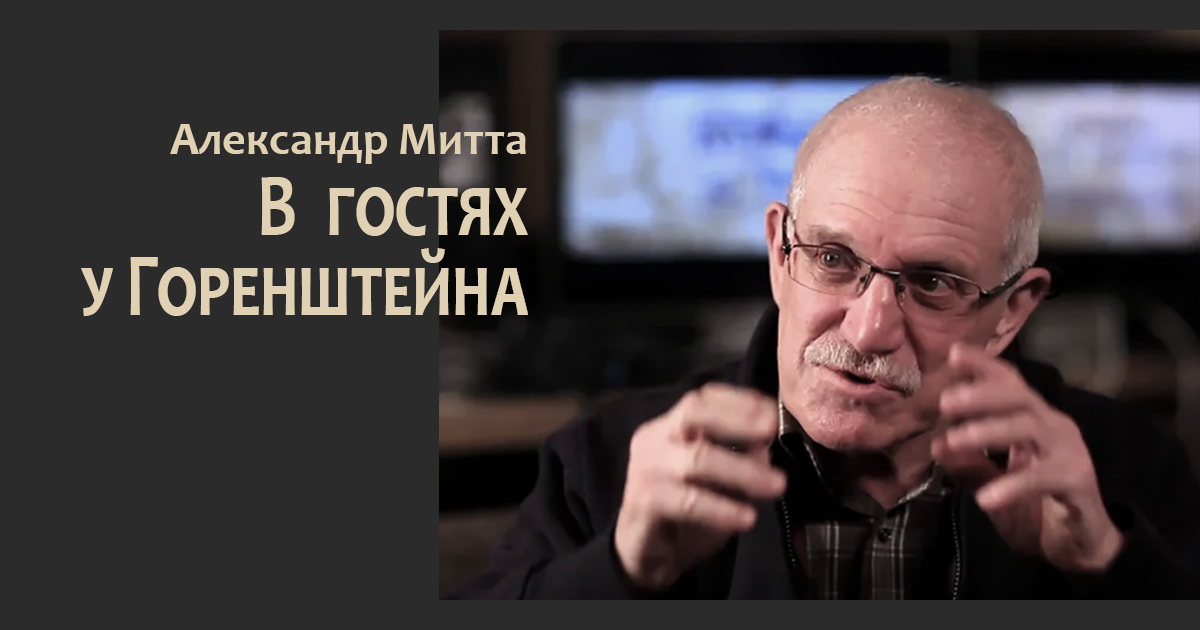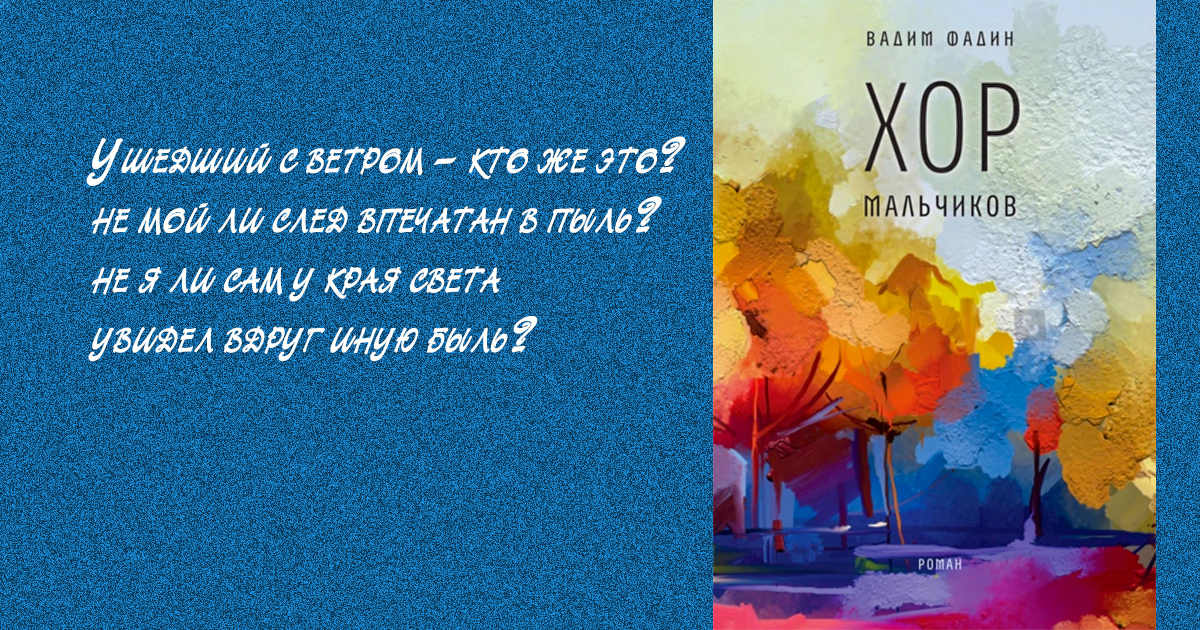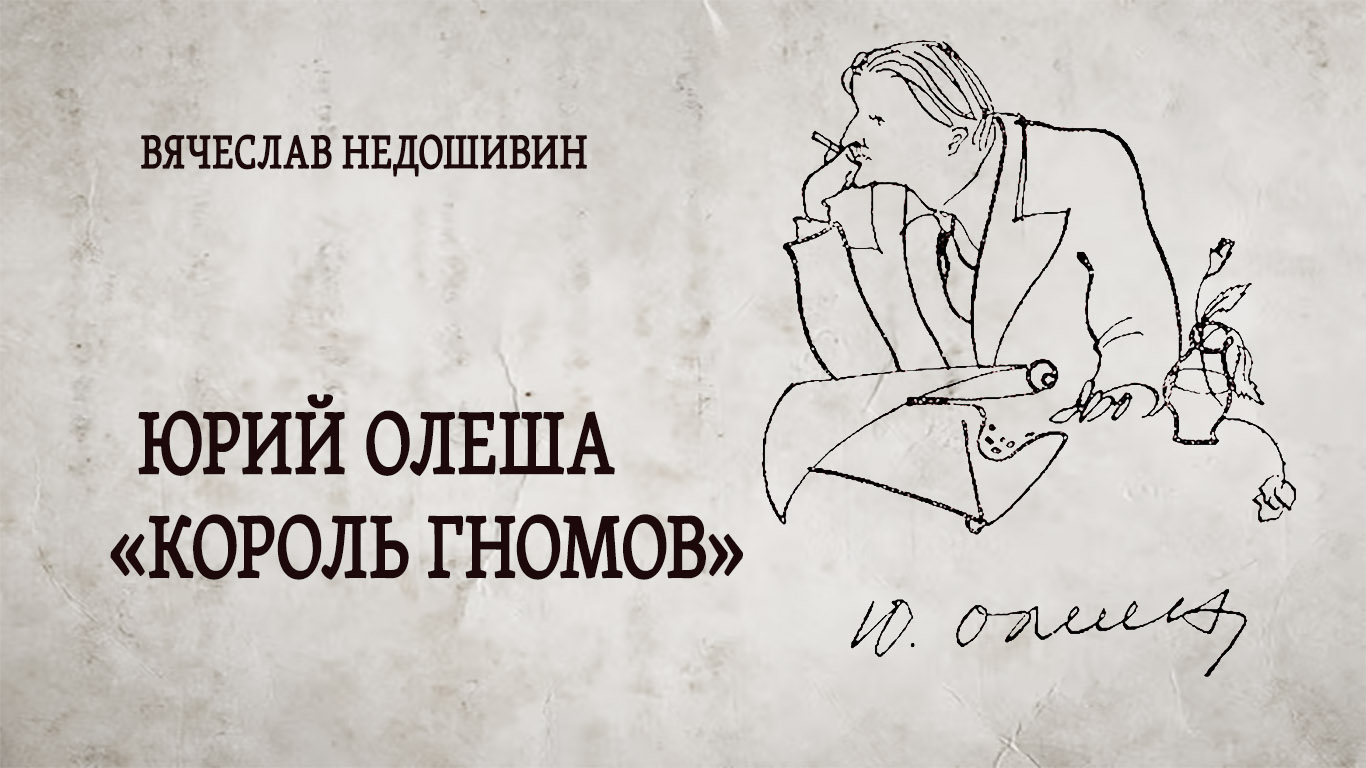Анатолий Пикач
На это вопрошание Пастернака у каждого свой ответ. Какие бы превратности судьбы нас ни настигали, – мы живы, пока слышим свои духовные истоки, их позывные. Михаил Вершвовский родом из Питера, из шестидесятых – семидесятых – «Милые мои, молодые, красивые, талантливые… Я оставил вас в той стране, в том памятном году. Где вы теперь?»…
Я тоже очевидец той поры, выходец из ЛИТО знаменитого Глеба Сергеевича Семенова, куда хаживали еще начинающие Александр Кушнер, Виктор Соснора, Андрей Битов… Но была еще магнетическая точка, о которой я тогда слыхал, ЛИТО легендарной Татьяны Гнедич, милостью чьей по-русски заговорил Байрон. Туда хаживали другие – Виктор Ширали, Анатолий Ушаков, Михаил Вершвовский… Первая известная его повесть «Время золотое» и писалась еще в 1970, как «домашняя» книга, книга для друзей по ЛИТО. Удивительно, как Вершвовский сразу уловил эту совершенно свою, домашнюю, как бы дневниковую манеру.
Да вот, дабы мой рассказ не был слеп, один из забавных эпизодов. Был ли в точности, как это описано в повести «вынос тела» из Дома писателя, звон разбитой бутылки, не знаю. Но, могло быть. Сам помню ту толчею у гардероба:
«А они выносили Виктора Ширали: передний – за ноги, а задние – за плечи и воротник. Выносимый был печален и задумчив. Придерживая правой рукой трость с серебряным набалдашником, он супился, подобно птице, величественно, и не сопротивлялся…
Что это? Что это? – повторял Куприянов (друг стихотворца – А.П.) и касался слабой рукой лица своего.
А ему отвечал Ширали, и голос его был глух, а лёгкая картавость еще более заметна.
– Русскую литературу, mein Herz, выносят, – и эхо вторило ему еще печальней…»
Непосредственно с Ширали и Вершвовским я познакомился позже, но поразительно, как мы дышали одним воздухом той полупечатной и непечатаемой стихии, в той гардеробной толчее, скользили взглядами по лицам друг друга – мало ли пока незнакомых лиц.
Кто-то рассказывает о скандальном выступлении «рыжего» по фамилии Бродский, Бог весть откуда явившегося. А вот я почему-то, не знакомясь, спорю с этим «рыжим» о верлибре – в том самом пивном баре, что знаменит еще по «Столбцам» Заболоцкого. Сходно мне и Вершвовскому вспоминается Довлатов. Как сейчас помню, заходит огромный к нам в «Звезду» подработать на «рецензушке», забавно рассказывает о своём секретарстве у Веры Пановой. А много лет спустя читаю забавное об этих заходах в «Звезду».
Да, поразительное совпадение. И я, как Вершвовский, не читал, тогда не печатаемого Довлатова. Мало ли нас таких было? Горячо спорили за бутылкой «Агдама», любили литературу… Кто есть кто определится позже, но оказывается именно тогда мы вживую вкусили завязь литературы нашего поколения.
Вот и Вершвовский выходит к нам своими книгами с большим запозданием. Попробуй напечатать тогда «Время золотое» – немыслимо! Но нет худа без добра. Я вот сел на слово «забавное». Что же, в молодости много упоительно забавного, но с годами оно же высвечивает гранью горестного лиризма, а Вершвовский, бесспорно, лазутчик поэзии в прозе. Поэзия и проза, молодость духа и поздний опыт сошлись у него так, что не разъять.
«Живая проза на обрывках дней», опять к месту Пастернак. Именно так. Эти обрывки дней, дневниковых записей на клочках бумаги похожи на листопад. И сколько тысяч их, этих дней, сгребло и снова разметало, закружило в памяти за целую жизнь? И потерялась строгая хронология – зачем она? Вот и девяностые ворвались в семидесятые, а вот еще в семидесятых – только теперь видно – брезжит дух девяностых…
И можно подбирать их – эти листки из блокнота, эти «обрывки дней» – складывать их так и этак в новый пасьянс, склеивать в новый коллаж и в такой склейке открывать новые негаданные смыслы… «Осень прощальная!» – прекрасное название одной из зрелых книг Вершвовского. Листопад дней! Такой видится мне необыкновенная в этой свободе проза Михаила Вершвовского. От книги к книге.
Я люблю рефрены. Это как морской прилив – набегает волна. В каждой книге Вершвовского завязь многих мотивов, и каждая предыдущая книга как завязь последующей. Сквозные мотивы и герои, житейские ситуации и истории, типажи, мысли о себе, друзьях, просто о знакомцах, о времени, истории, таинственных странностях души человеческой, о любви, об искусстве, о Боге, наконец – и рефреном накат лирической волны:
«Сны. Мотылек летит в зенит. Капитан на корабле смотрит в дальние туманы. В лесу, грустя, поёт кларнет». – «Ветер трубку костра докурил и ушёл».
«Прости мне, прости мне, ночные вокзалы, цветы на окошке и письма стихами… стихами. Стихают трамваи.….»
Какая мелодическая энергетика в этих стихах, презревших строфическую разбивку – нырнувших в прозу… Какой гипноз аллитераций! «Ради этих лирических отступлений я жил и живу… Чем стала бы моя жизнь без них?» – мне нравятся рефрены у Вершвовского, его лейтмотивы, его партитурное письмо.
Проза, рассыпанная на множество фрагментов, дневниковых помет, да еще помет множества людей. По всей веренице книг идут далекие «перезвоны», как удачно сказал Заболоцкий. И недаром Вершвовскому близок (не по миропониманию, конечно) по жанру Василий Розанов, его «Короб осенний».
Взметённый вихрем листопад мыслей, наблюдений, душевных порывов! И как мы ответим на вопрос – «чем держится без клея живая повесть на обрывках дней»? Да этой клейковиной творчества, фантазии, которая помножает дневник на дневник, версию на версию, и на следующий дневник, и на следующую версию, и так далее, сколько угодно.
Каждая жизнь – своего рода черновик романа. Никому не отвертеться – хочешь ни хочешь, но каждым днём своей жизни ты вчерне пишешь этот роман. Одни страницы упоительны, читать другие неприятно, стыдно, третьи переходят на судорожно неряшливый уже, торопливо неразборчивый почерк. Что-то в досаде вычёркиваешь – пытаешься надписать сверху иначе. Вариант. Черновик, как черновик. В надежде, что однажды все перепишешь набело.
Но мы ведь об особом романе. Вы не забыли? О романе, который пишется самой жизнью и в самой жизни, а жизнь не переписывают набело, ее не прикроешь вымышленным героем, как любили делать наши великие предшественники. Так, может быть, и не надо? Иные времена! И нам опять ближе Монтень, к примеру?
О такой неканонической прозе в наши дни замечательно писала Лидия Яковлевна Гинзбург, человек выдающейся эрудиции и ума. Помню, много с ней говорили о конце романа. «Есть грусть расставания с милыми сердцу образцами и радость встречи с новым, тогда и старое видится в ином ракурсе». Это прямо к вопросу о Вершвовском.
Александр Кушнер читает дневники Никитенко об их с Гончаровым заграничном путешествии и вдруг даже так заостряет мысль – «Мне интересней читать в дневнике все это, чем гончаровскую прозу, знал бы прозаик…»
Михаил Вершвовский оказался среди тех, кто творческой интуицией уловил этот неумолимый поворот прозы к «нательной рубахе» дневника. Дневника, конечно, не для себя и про себя исключительно, но как литературного жанра, в котором вымысел не подменяется фактом: (всегда есть одна из версий этого факта), но в столкновении версий вымысел и факт все время меняются местами, мгновенно перемещаясь по полю, как баскетболисты с мячом.
Вот ведь какая, совершенно необычная «дневниковость» этой прозы уже не монтеневская. Она многогеройна. Жизнь бывает бедна в неумолимости неутешительного вывода, но каким-то образом одновременно непостижимо щедра в этой игре ракурсов, перестановок, потенциальных вариантов и версий, которые многозеркально множатся, и мы попадаем, как хорошо выразился Виктор Соснора, в этот непроходимо загадочный «лес зеркал».
«Я» с годами превращается в «ОН», старый дневник сменяет новый. Цепочка вариантов и версий это цепочка двойничества. Мы оказываемся на людном перекрёстке дневника и видим все с разных точек зрения одновременно. Сюжет бежит сразу по нескольким беговым дорожкам. И тональность тоже.
«Я пытаюсь жить в Кельне. Если возможна жизнь в чужом доме…» – «Скучно. Боже мой, как скучно! Тревожно. Хочу домой… в ту страну, которой уже нет. Тошно». А при этом – «Нам повезло. Мы жили в замечательное время». В том, конечно, высоком тютчевском смысле: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые»…
Но как раз замечательно, что высокое для Вершвовского не обязательно патетично. Мне отрадно, что поздняя его проза, драматичная по духу и накалу, не утратила живую струю жизнелюбия и юмора – довлатовскую в широком смысле слова: теперь, вероятно, можно говорить и так.
Но у Вершвовского это происходит по-своему. Как некая разрядка вдруг врывается в текст импровизация на тему известной скороговорки «Клара украла у Карла кораллы…» Тут все – и известный романс о проезжем корнете, и замечательная пародия на штамп авантюрной мелодрамы минувших времён, но если угодно, и на нынешние сериалы.
«Однажды молодая Клара играла на кларнете, а на неё подбоченясь загляделся проезжий корнет. Тогда Клара украла у своей подружки Карлы кораллы и решила бежать с этим корнетом Оболенским на дилижансе в Петербург. Но корнет еще раньше все проиграл в карты и уговорил Карлу украсть для него у Клары кларнет, чтобы вместе бежать в Париж. Обманувшаяся в мечтаниях Клара осталась одна, сидит в чужих ворованных кораллах и горько плачет. А коварный корнет в Париже играет этой толстожопой Карле на кларнете. Фу, какая гадость! Да он играть-то не умеет».
Но помимо юмора в каждом таком маленьком шедевре потаённый горький лирический сарказм. Да нет, не потаённый, как только он резонирует с драматической историей крушения былой жизни, крушения любви, семьи и дома, рассказанной нам. Передо мной последняя на сегодня книга Вершвовского «Я виноват».
В некотором смысле двойник автора Лопухов пишет в эмиграции не только воспоминания, но теперь еще сценарий фильма о неком господине «М» и его жене, популярной журналистке «А», в котором также улавливаются черты автобиографические. На новом витке драмы отношений двух людей цепочка двойничества таким образом продлевается еще.
Но двойничество это не полнейшее тождество – иначе, зачем двойничество литературе? Это по классической формуле тождество с различием внутри. Именно таково расщепление персонажа. Опять-таки варианты и версии. Так и гадайте до конца – все-таки Аська, жена Лопухова, и популярная журналистка «А» одно и то же лицо или два? Вспомним, что художественное дознание, в отличие от житейского, увёртывается от однозначного ответа. Дразнит вас его мерцанием и увёртывается.
В конце повести – «В конце концов, Аська возвращается к своему измученному мужу, чтобы издеваться над ним», а популярная журналистка «А» в сценарии фильма уходит к кинооператору, обездолив маленькую девочку, обрекая ее при живом отце на безотцовщину. Говорят, гётевский «Фауст» – пьеса для чтения глазами, а не для постановки. Вероятно, таков и сценарий фильма, вмонтированный фрагментами в текст. Таков приём повести. Здесь важен закадровый голос.
Люди моего поколения еще помнят французский фильм, который в те времена оживлённо обсуждался. История отношений мужчины и женщины, столкновение их судеб и характеров. История их любви даётся в двух сериях и версиях. В одной его глазами, а в другой ее глазами. У каждого своя правда, а вы уже решайте, чья вам ближе.
«Я виноват» построена на такой же «двухсерийный» манер. Но в книге Михаила Вершвовского «Его» и «Ее» версии даны параллельно. Архитектоника его небольшой по объёму, но с крепостью концентрата книги куда сложнее, прихотливее. Она многозеркальна, как мы уже говорили.
Драма, трагедия измученного обманом, предательством, любовью и ревностью покинутого, немолодого человека то здесь, то там вдруг вздрогнет оголённым нервом, повсеместно пробиваясь сквозь ткань повести, сперва отдельными всхлипами, а в конце спазмой, сжимающей сердце.
Сам автор и над этой ситуацией и в ней.
Помимо прототипов, помимо личной драмы двух людей в повести Михаила Вершвовского сталкиваются две извечные сущности – мужская и женская, две загадки. Великий шаман философии Хайдеггер утверждал – нет последнего ответа на вопросы, есть извечное вопрошание. И перетасовывая версии мы вопрошаем, вопрошаем, вопрошаем, кажется, приближаясь к ответу, в последний момент всегда ускользающему.
Две сущности, мужская и женская. Две загадки, до конца никогда не слиянные. Нераздельные до конца.
В книгах Вершвовского чарующее многозвучие, многострун-ность не только в мотивах, – они размышление обо всем на свете, – но и в тональности. Его книги политональны.
«Воспоминания, как лирические отступления, залечивают свежие ссадины и раны. Но они не способны изменить нашу судьбу. Жернова времени неизбежно и неумолимо сотрут нас в лёгкую пыль, а вселенские ветры развеют ее над бескрайним океаном прошлого».
Человек, рождённый для дружеского круга, чтобы увидеть эпоху «домашним образом», в любом случае горько переживает закон жизни – «Иных уж нет, а те далече». Юности не удержать, дружеский круг распадается неумолимо. Но и натуры не переменишь, и сама проза Вершвовского аккумулирует и хранит ту былую атмосферу, обдаёт читателя ее веяньем, «да в каких уголках моей родины не собирались замечательные застолья? В хороших застольях сходится народ талантливый…»
Как у Пастернака:
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.
В книгах Михаила Вершвовского наша жизнь и время. Эти книги – самый сокровенный, самый доверительный разговор с его талантливыми, умными и добрыми друзьями-читателями, которые все поймут и помогут, которым необходимы его повести.