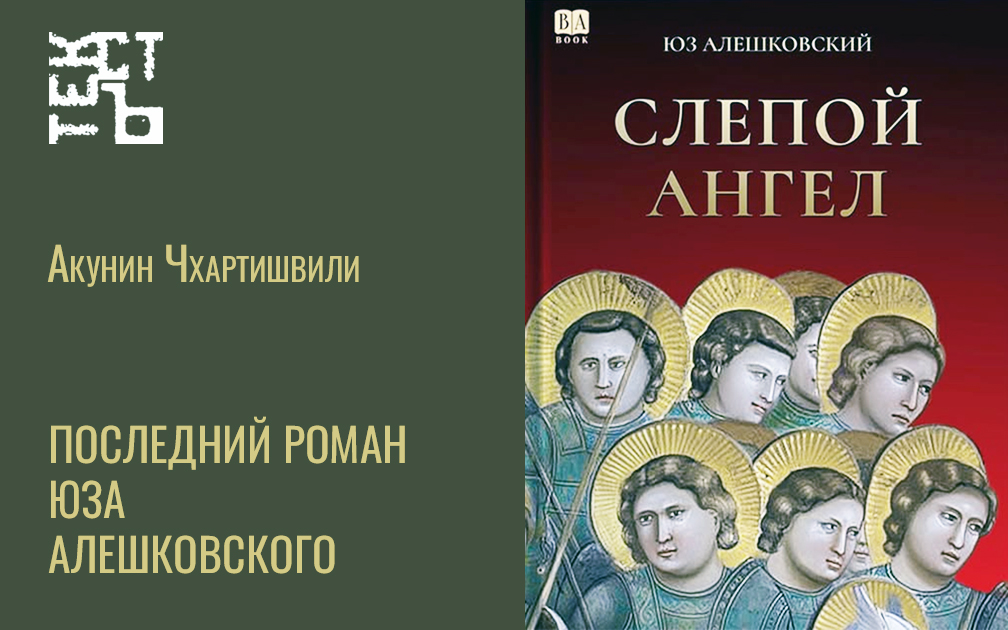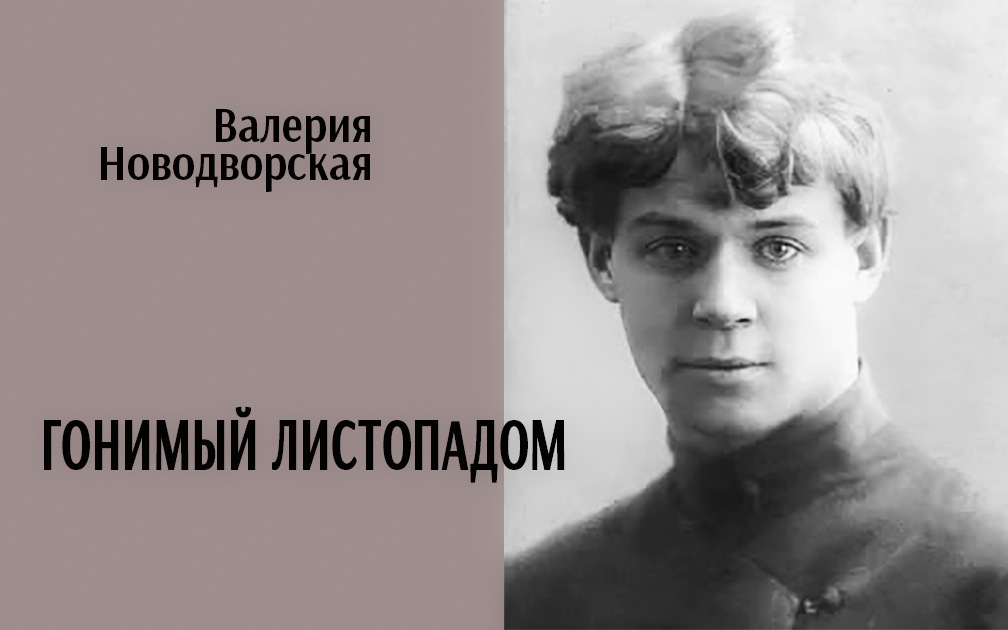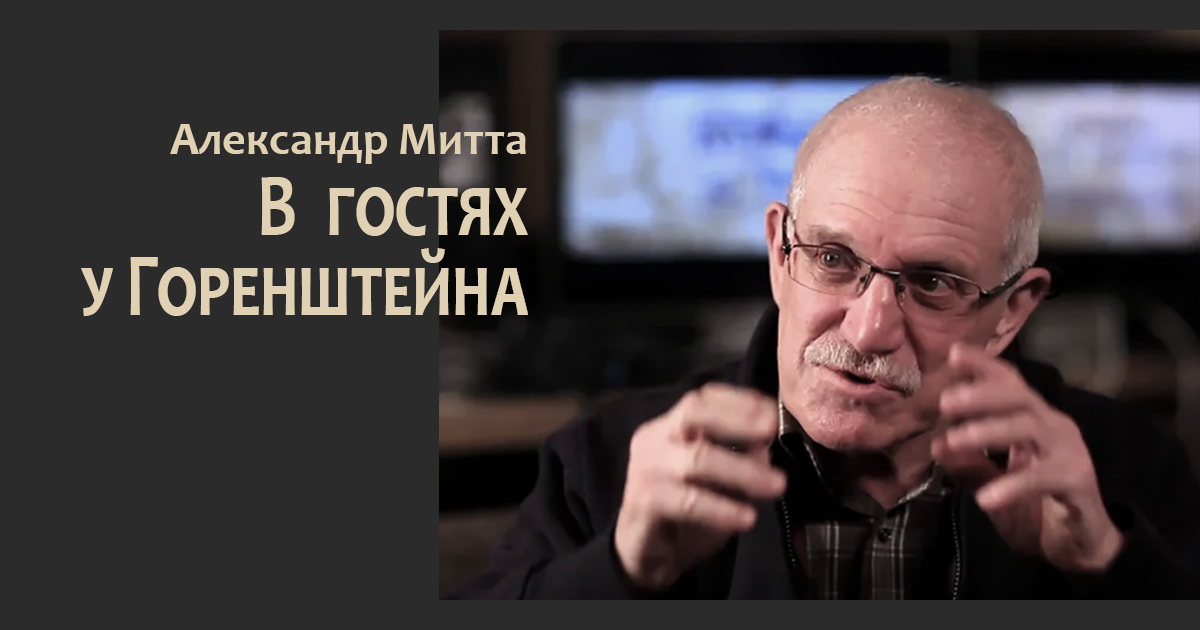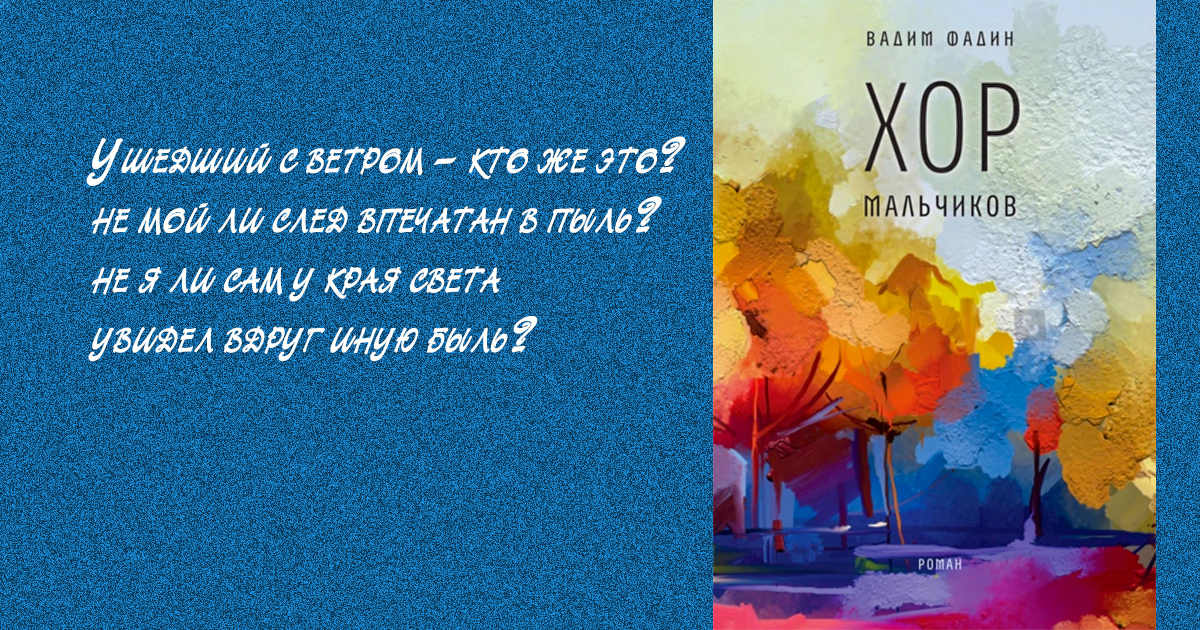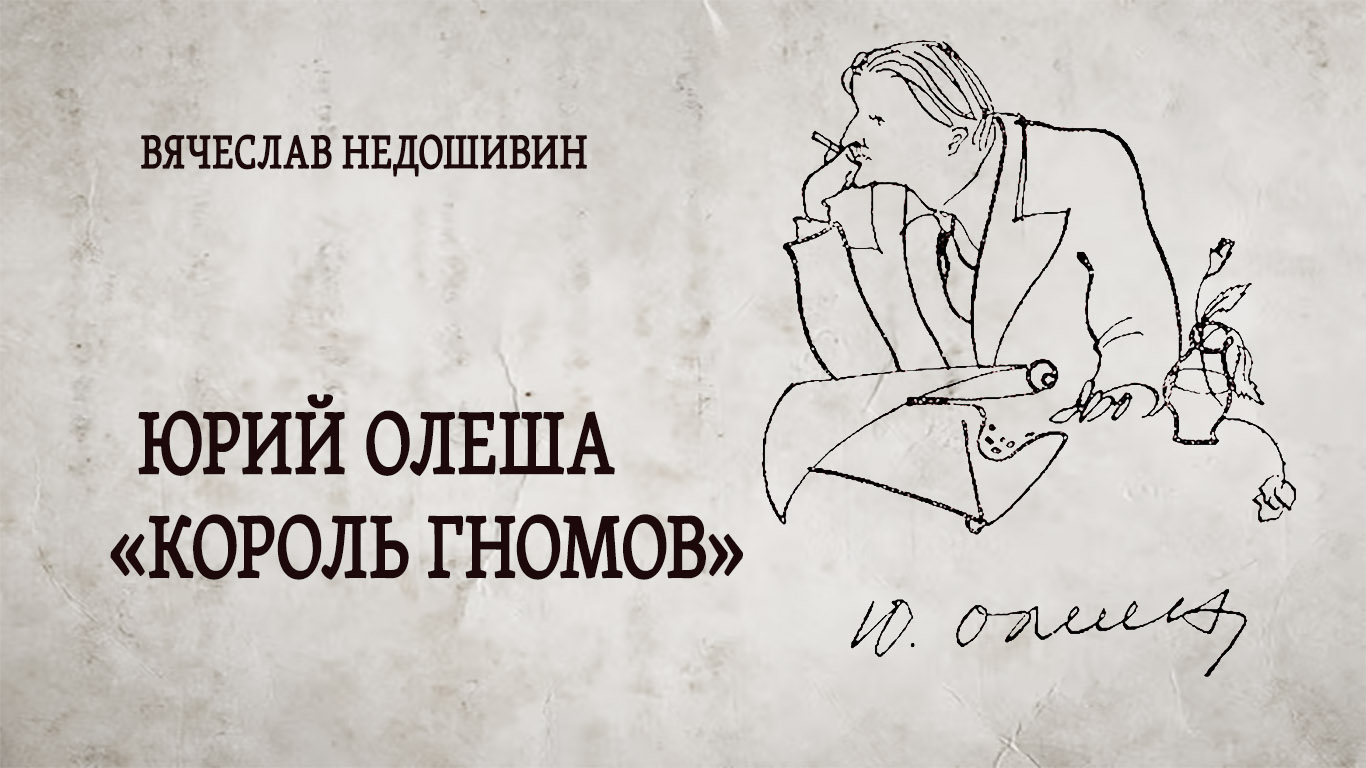Валерий Стародубцев - бывший рижанин, соавтор сценариев к нескольким фильмам, снятым на Рижской киностудии. Автор сценариев многосерийных художественных фильмов. Много лет проработал в Москве заведующим литературной частью театра «Современник» (гл.режиссер Галина Волчек). После чего ушел в журналистику, издавал журнал о театральном и кино искусстве. Сейчас Валерий Стародубцев постоянно проживает в Германии, недалеко от Берлина, в городе Виттенберге.
Четыре тетрадки рядового Хижнякова
Не помню, когда и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились. Наверно, в какой-то актерской компании. Он только что, к удивлению многих, был принят в театр. За его спиной пожимали плечами: зачем? Что он может играть? Было ему уже далеко за сорок, и красавцем он не был. Невысокий, ростом даже ниже среднего, с непропорционально маленькими ручками, с густой шапкой седых волос. Но когда начинал говорить, к нему прислушивались: низкий для такой комплекции грудной голос и смеющиеся умные глаза. Недоумения сразу же прекратились, как только он начал репетировать свою первую роль – Аздака в брехтовском «Кавказском меловом круге». А когда сыграл, тут уже и закоренелые скептики вынуждены были признать: артист милостью божьей.
В тот летний вечер мы встретились случайно около дома, в котором он жил. Оба были свободны: наши домочадцы были на даче. Он сказал: «Мне сало прислали. С Украины. Предлагаю продегустировать». Намек я понял, мы зашли в магазин, отоварились напитком, без которого сало есть глупо, и поднялись к нему в квартиру. Кажется, это была коммуналка. Он привел меня в совсем маленькую комнатушку, служившую ему кабинетом. Принес электроплитку. На ней мы жарили сало, макали хлеб в растопленный жир, закусывали помидорами и зеленым луком, кажется, ничего вкуснее я никогда не ел. И потекла беседа…
Михаил Степанович Хижняков родился в деревне под Калининым в 1923 году. После окончания школы поступил в театральную студию при Калининском драматическом театре, кажется, это был выездной филиал Школы-студии МХАТ, Со второго курса был призван в армию, прошел обучение в краткосрочной школе десантников. Его первое же боевое задание – участие в Вяземской десантной операции – стало и последним. Это была одна из самых неудачных военно-десантных операций наших войск. Вместе с тысячами таких же красноармейцев попал в плен. За годы войны ему пришлось сменить с десяток концлагерей для военнопленных. Конец войны застал его на подземном заводе про производству фаустпатронов где-то на границе с Швейцарией.
«Знаешь, что помогло мне выжить? Сейчас покажу. – он вышел и вскоре вернулся с жестяной коробкой из-под кинопленки. Открыл. – Эти тетрадки. Все годы плена я вел дневник. Теперь это самое дорогое, что у меня есть».
Вести военный дневник Хижнякову и его товарищам-студийцам советовали педагоги студии. Ведь актер должен быть наблюдательным, в дальнейшем это пригодится в профессии. Никто из них тогда не знал, что красноармейцам будет строжайше запрещено вести дневники, а их письма с фронта будут просматриваться цензурой. Эти четыре тетрадки и набор карандашей он взял с собой, отправляясь на фронт.
Михаил Степанович бережно перелистывал страницы тетрадок и рассказывал. Этот рассказ меня ошеломил. Такой войны я не знал. И хотя с той ночи прошло уже более полувека, я помню его рассказ так, будто слышал его вчера.
При въезде в каждый лагерь для военнопленных (их нельзя путать с лагерями уничтожения) висел щит: «Международный Красный Крест через посла СССР в Стокгольме А. Коллонтай обратился к советскому правительству с предложением оказывать гуманитарную помощь пленным красноармейцам. Советское правительство в ответ сообщило: у нас нет пленных, а изменникам Родины помогать не считаем нужным».
В этих лагерях красноармейцы находились в самых тяжелых условиях. Оборванных, всегда голодных, с кровоточащими ногами в стоптанных сапогах, их посылали на самые тяжелые работы. Даже крепкие парни не выдерживали. Когда в лагерях стали появляться эмиссары РОА (несколько раз приезжал и сам генерал Власов), и агитировали вступать в Русскую Освободительную Армию, многими это было воспринято как перемена участи, чуть ли не освобождение. Но Хижняков на уговоры не поддался. Почему? Не понравились ему ни Власов, ни его эмиссары. Было в них что-то скользкое, неприятное. Он не анализировал, положился на свой внутренний голос, и сказал твердое нет. Его отправили на работы в каменоломню. Вот тут дошло до желания свести счеты с жизнью. Терпеть больше не было сил. Он задумал повеситься. Присмотрел балку в сортире, но не было веревки.
«К тому времени, – рассказывал Хижняков, – у меня уже было чем обменяться – первая тетрадь. Все, что можно было прочесть, ценилось очень высоко. Я даже выменял свою вторую тетрадку на настоящую книгу. Это была «Капитанская дочка». Я прочел ее раз сто, и в конце концов выучил наизусть. Я и сейчас ее помню. И знаешь, через полтора года эта вторая тетрадь вновь ко мне вернулась уже совсем в другом лагере. А тогда я искал веревку, и нашел у одного парня. Обменялись. Пошел в сортир, сделал петлю, и, закрепив конец, перекинул веревку через балку. Перекрестился, мысленно попрощался с родными, и прыгнул. И тут же оказался с головой в говне. Веревка была гнилая, и не выдержала веса моего тела. Я стал тонуть. И в этот момент во мне взыграло возмущение: утонуть в говне – а вот фиг вам! Не дождетесь! Еле выкарабкался…»
Удивительно, но вспоминая этот драматический эпизод, он заливисто смеялся, и я, хотя и почувствовал холодок ужаса от его рассказа, тоже не мог удержаться от смеха.
«Нас много раз делили, перетасовывали, перебрасывали из одного лагеря в другой, с одной работы на другую. Но голодали мы везде. Осенью 44-го я оказался в международном лагере, где кроме нас, советских, были пленные из армий антигитлеровской коалиции. Там нас поделили на сектора. Соседями слева были пленные индусы. Да, не удивляйся, они служили в канадской авиации. Условия у нас были разные. Как говориться, два мира – два Шапиро. Наш участок: оборванцы, грязь, особенно после дождей, рыхлая земля, налипшая на обувь, и голод. А у соседей – все иначе. Во-первых, они не работали, за них платило канадское правительство. И участок у них ухоженный, выложен знаменитым дерном кэнэдиен грин – шелковая зеленая травка. Лежат эти индусы на травке, у них и хлеб, и тушенка, компоты разные, и сигареты. Их сторожит охранник, немецкий солдат, получавший в то время всего две сигареты в сутки. Но взять у пленных – это исключено. Тут же попадет под суд. Ну и мы, через колючую проволоку смотрим на эту жизнь в плену своими голодными глазами, и понимаем, что так должен выглядеть рай. Они нам ничего не давали. Мы долго не могли понять почему, потом догадались: мы безбожники. А они молились регулярно, и подолгу. Тогда и нам пришло в голову, что надо продемонстрировать индусам свою религиозность. Стали искать тех, кто знает молитвы – никого не нашли. И тут я придумал. Построил своих ребят, вышел перед ними и нараспев произнес: Я памятник себе воздвиг нерукотворный… Повторяйте! И все стали за мной повторять: Я памятник себе… Я: К нему не зарастет народная тропа… Ребята: К нему не зарастет… И так часа два, а то и больше. После этой «молитвы», индусы перекидывали нам пару батонов и банки тушенки.
Пушкин мне всегда помогал. Я эти стихи читал при поступлении в студию. Теперь он меня и здесь выручил».
В самом конце войны он работал на заводе, производившем фаустпатроны. Завод был подземный, бригада международная. За время плена освоился, научился понимать иностранную речь. Жили в лагерных бараках. Однажды проснулись – нет охраны. Охрана разбежалась, не стала ждать, когда приедут союзные войска. Сначала пленные преисполнились энтузиазмом: свобода! Выбежали за ворота. Кругом – лес, куда идти никто не знает. Постояли, побродили, и… вернулись назад, в лагерь. Две недели прожили, дожидаясь освобождения. Наконец, приехали американцы. Сказали: собирайтесь, эвакуируемся, лагерь закрываем.
«Я уезжал последним. Опять долго искал веревку, хотел перевязать свои растрепанные тетрадки. В американских студебеккерах лавки располагаются вдоль бортов, а не поперек, как в наших грузовиках. Я залез в кузов, сел, рядом на край лавки положил связанные тетрадки. А надо тебе сказать, что в американской армии все шоферы – негры, а все негры – лихачи. Наш шофер как газанул – тут же мои тетрадочки – бряк, и вывалились из кузова. Я стал кричать, бросился к кабине, стучал по крыше – ничего не помогло. Машина на бешеной скорости летела по дороге. Как же я горевал! Это же надо! Четыре года хранил, берег, и в последний день такая нелепость! Проехали километров шестьдесят, и вдруг машина остановилась. Дорогу пересекала колонна техники. Стали ждать. А колонна все идет и идет, какая-то бесконечная. И я решил: это знак. Слез с машины, и пошел в обратную сторону. Через пару километров меня догнал легковой автомобиль. Сидевший рядом с шофером капитан спросил: куда? Я ответил. Садись, подвезем. Так я опять оказался в своем лагере. Охранник сразу же выдал мне мои драгоценные тетрадки. Но идти теперь уже было некуда. Капитан сказал: оставайся, будешь у нас переводчиком. Полгода я прожил с этой американской бригадой, которая должна была развернуть полевой госпиталь. Нашли помещение, получили необходимое оборудование, продовольствие и медикаменты, набрали штат из местных жителей. Не было только раненых. У американцев я, наконец, отъелся. У них было все. Не было только выпивки. Мы нагружали багажник разными продуктами и я ездил выменивать их на шнапс. С капитаном мы подружились, и однажды он предложил: давай махнем в Рим! Ты был в Риме? Я не был. И капитан мой тоже не был. Но, оказывается, всю жизнь мечтал. И тут меня осенило: да меня же расстреляют! Нет, сказал я капитану, я в Рим с тобой не поеду. Я хочу к нашим. Капитан удивился, но отговаривать не стал. Мы в последний раз загрузили багажник блоками сигарет, окороками, тушенкой и другими консервами, и поехали на советский пересыльный пункт. Доехали, остановились у шлагбаума. Из будки вышел наш солдатик. Половина шинели у него была обгорелая. Ну, что, – сказал капитан, – может, передумаешь? Я отрицательно покачал головой.
Ну, а потом – полгода проверок, допросов, выяснения личности. Мне повезло: я всего лишь солдат, не офицер, не коммунист. Домой я приехал летом 46-го. Дверь открыла мама. Увидела, и упала в обморок. Думала, что меня уже нет на свете. А потом сбежались со всей округи соседи, устроили пир. А ночью за мной пришли…»
P.S. Я решил написать про свой ночной разговор с Михаилом Степановичем Хижняковым, потому что меня очень интересует судьба его дневников. Потом мы еще не раз с ним встречались, но такого разговора уже не было. Как артист, он быстро набирал силу. После Аздака сыграл роль Сократа в пьесе Э. Радзинского «Беседы с Сократом», репетировал роль короля Лира в пьесе Шекспира. Меня уже не было в Риге, но по слухам я знаю, что накануне премьеры Хижняков попал а автокатастрофу, долго восстанавливался, но в театр русской драмы больше не вернулся. Он принял предложение Ленинградского театра им. Пушкина (ныне Александринского) играть роль Сократа вместо ушедшего из театра Ю.В. Толубеева, и переехал в Ленинград. Немного снимался в кино.
Михаил Степанович Хижняков умер в 1992 году в Израиле. Не знаю причин, по которым он там оказался. Вряд ли это был переезд на новое место жительства (основания для этого были у его жены Марты), скорее всего он уехал лечиться. Ничего не известно мне и о судьбе его жены и сына. Если среди тех, кто прочтет этот текст, найдутся люди, обладающие какими-либо сведениями о М.С. Хижнякове, его семье и о судьбе его тетрадок, я буду им очень признателен.