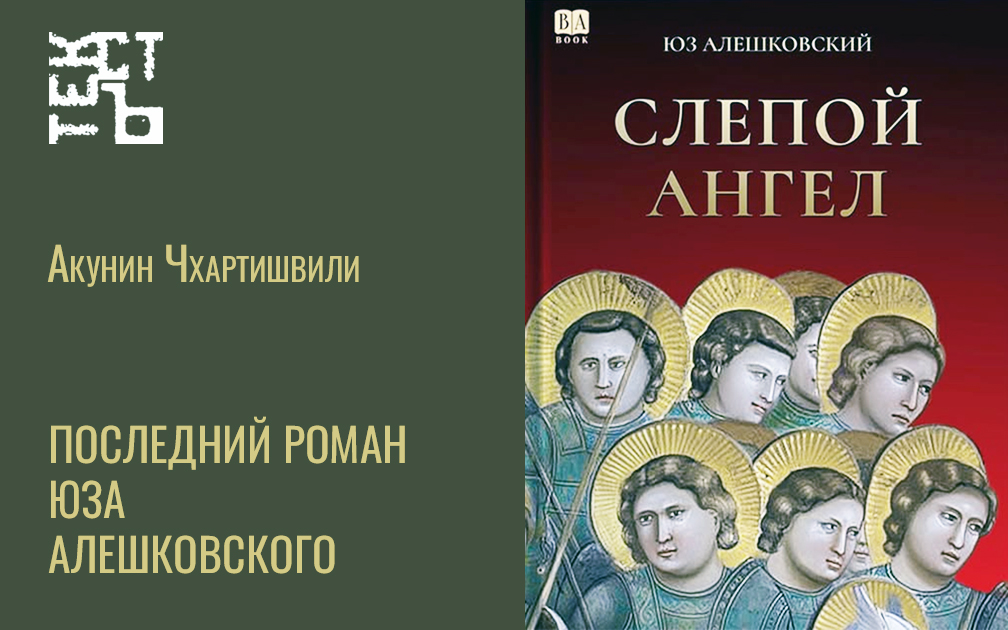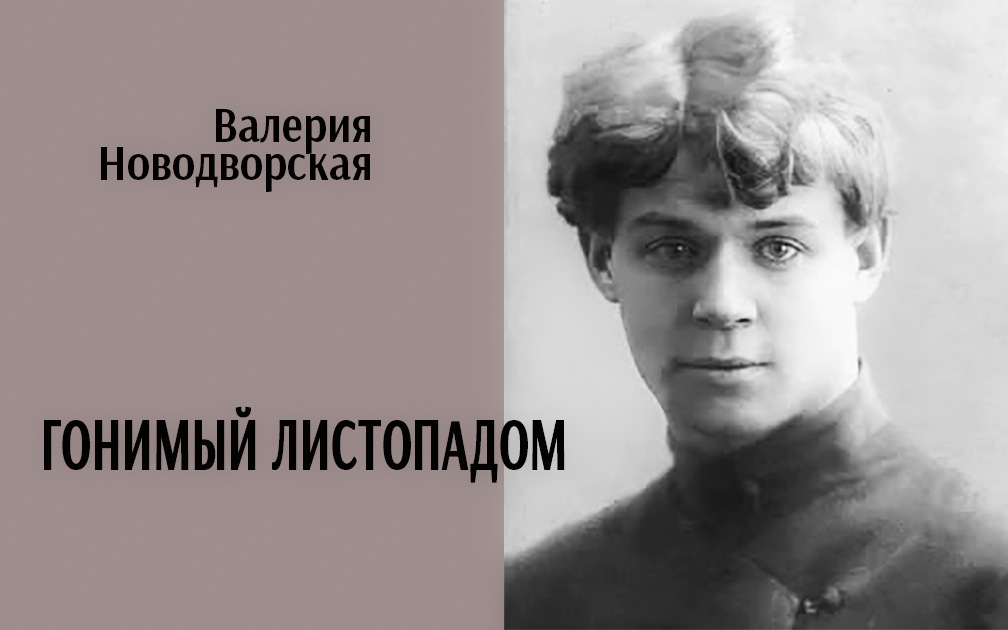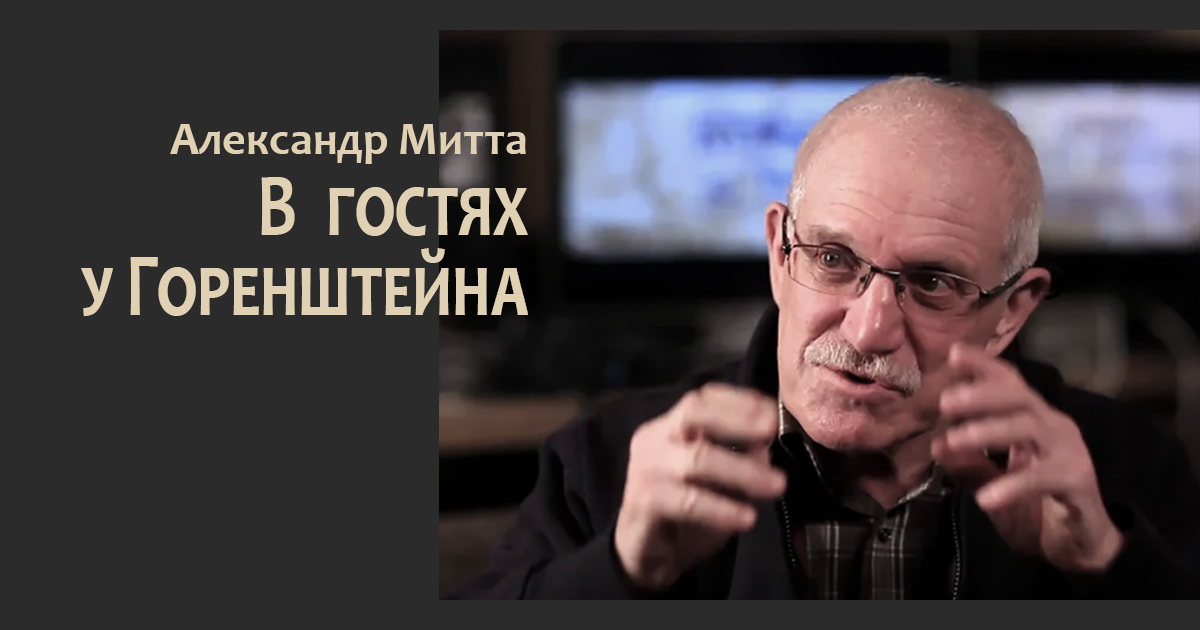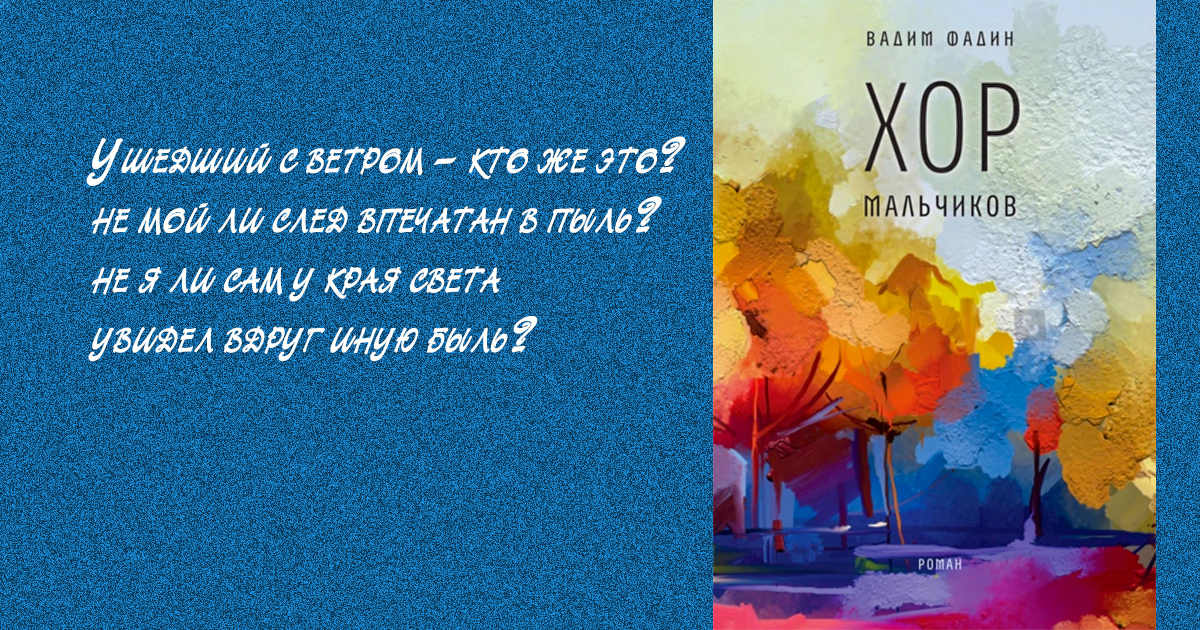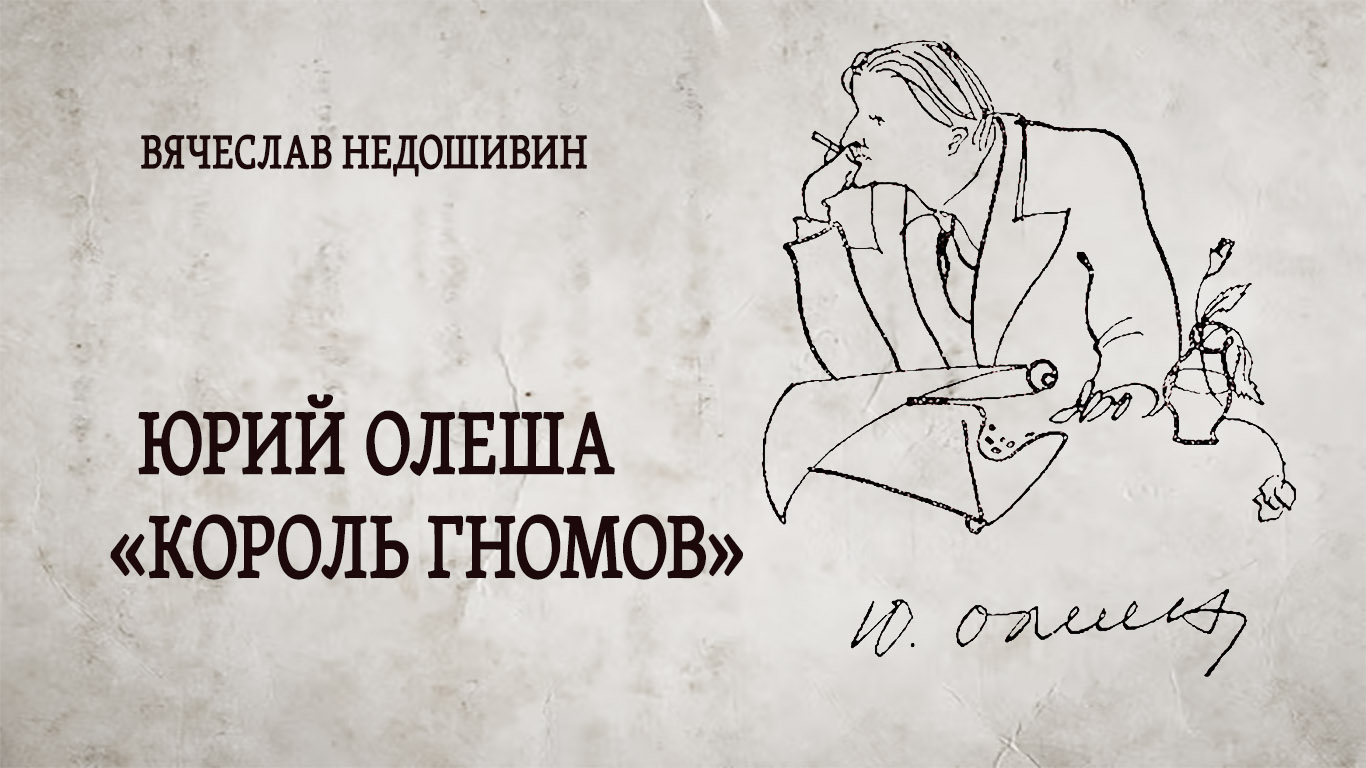Душа Эдички при переходе в сумерки
Когда в самом конце семидесятых годов в Союзе появился роман Лимонова «Это я – Эдичка», среди читающей «тамиздат» московско-ленинградской интеллигенции разразился скандал. Автор мог торжествовать: это несомненно входило в его планы. Во все времена и во всех сообществах скандал возникает по одной причине: из-за нарушения господствующей типовой морали или нормативной эстетики (что, в общем, одно и то же). Типовая мораль той относительно продвинутой и очень узкой части интеллигенции, которая имела доступ к «Эдичке», была оскорблена по крайней мере трижды, Прежде всего, в романе была оскорблена «американская мечта», волей-неволей владевшая умами людей времени развитого социализма. Миф о том, что только у нас нам плохо, а там, за морем, замечательно, что только у нас все чахнут, а там расцветают розами, миф этот при всей своей восхитительной наивности был довольно стойким, в первую очередь потому, что стойкой была система. Ни о каких переменах (разве что к худшему) тогда, разумеется, никто из читателей Лимонова не помышлял. Все были свято убеждены, что советская власть срослась с нами навеки, как трусы с телом амазонки. На этом свете «американская мечта» была последним прибежищем, иллюзией драгоценной и бережно хранимой. Лимонов разрушал ее демонстративно и беспощадно. Удар оказался настолько болезненным, что об этом предпочитали впрямую не говорить. Охотнее обсуждалось другое – то, что задело меньше, но чем можно было возмущаться более комфортабельно.
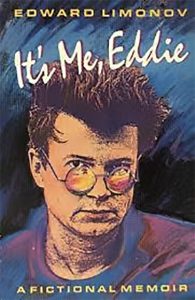 Вкупе с «американской мечтой» в романе «Это я – Эдичка» были поруганы те, кто, на взгляд Лимонова, эту мечту’ насаждал в Союзе, – диссиденты-правозащитники во главе с Сахаровым-Солженицыным. И диссидентов-правозащитников, и Сахарова-Солженицына Лимонов писал через мысленный дефис, не видя между ними никакой разницы. По большей части не видела этой разницы и публика, читавшая в те годы «Эдичку». Ее возмутило не содержание претензий, вполне идиотских (кто, где, когда и каким образом насаждал у нас «американскую мечту»?), а само их наличие, не говоря уж о форме – матерной, преимущественно, – в которой они были высказаны.
Вкупе с «американской мечтой» в романе «Это я – Эдичка» были поруганы те, кто, на взгляд Лимонова, эту мечту’ насаждал в Союзе, – диссиденты-правозащитники во главе с Сахаровым-Солженицыным. И диссидентов-правозащитников, и Сахарова-Солженицына Лимонов писал через мысленный дефис, не видя между ними никакой разницы. По большей части не видела этой разницы и публика, читавшая в те годы «Эдичку». Ее возмутило не содержание претензий, вполне идиотских (кто, где, когда и каким образом насаждал у нас «американскую мечту»?), а само их наличие, не говоря уж о форме – матерной, преимущественно, – в которой они были высказаны.
Но не одним только диссидентам сопутствовали в романе матерные выражения. Они плотно окружали любовь «Эдички», ставшую третьей и главной темой разразившегося скандала. Собственно, это относится всего лишь к одной главе романа, с негодованием отвергавшейся и, как всегда в таких случаях бывает, зачитанной до дыр. В злосчастной главе во всех физиологических подробностях живописались объятия героя с негром-уголовником на заброшенном нью-йоркском пустыре. Главу обсуждали и осуждали, багровея от возмущения, хотя сами по себе гомосексуальные объятия вряд ли могли кого-то поразить. В кругах первых читателей «Эдички», тесно связанных с богемой, такого рода объятия были столь же распространены, сколь сейчас, и не то что бы очень скрываемы.
На самом деле возмутили не объятия, а кому и как они оказались распахнуты. Оскорблена была не нравственность, а нечто другое, за нравственность выдаваемое, нарушена не типовая мораль, а нормативная эстетика (что только доказало их принципиальную близость). Всех, наверное бы, устроило, случись любовь не с бандитским негром, а с балетным амуром, не на заброшенном пустыре, а в заброшенном замке со следами упадка, не настолько, впрочем, сильными, чтоб там не нашлось немножко «буля» или хотя бы георгианской мебели.
Относительная для русского романа эстетическая новизна «Эдички» глухо игнорировалась его оппонентами, потрясёнными моральным обликом Лимонова. Но эта же эстетическая новизна приобрела абсолютное значение в глазах его поклонников, более или менее равнодушных к любым моральным обликам и политическим инвективам. Так на интеллигентских кухнях конца семидесятых – начала восьмидесятых годов вокруг романа «Это я – Эдичка» вызревал конфликт, которому суждено было выйти далеко за пределы простых вкусовых предпочтений. Не имея тогда никаких шансов даже эхом откликнуться на страницах печати, он отразился там лишь спустя много лет в виде явно запоздалой и уже почти параноидальной дискуссии между «шестидесятниками» и «восьмидерастами». Интересно, что роман «Это я – Эдичка» оказался в ней практически не задействован, в одночасье мифологизированный и впоследствии благополучно забытый. Лимонов как будто и сам напрашивался на мифологизацию. В русской литературной традиции нет такого произведения, где бы личность героя столь декларативно соответствовала личности автора. Кажется, что Эдичка абсолютно равен «Эдичке», и недаром в литературных кругах его иначе не именуют.
В этом соответствии Лимонов так умело непосредствен и вызывающе подробен, что невольно начинаешь во всем сомневаться, подозревая литературную игру там, где она простодушно отсутствует. Против литературной игры говорит вроде бы все. Ну хотя бы то, что большинство произведений, написанных после «Эдички», – и «Дневник Неудачника», и «Подросток Савенко», и «Молодой негодяй», и многие рассказы – варьируют одни и те же автобиографические мотивы, одну и ту же исповедальную интонацию, только с куда меньшим успехом, чем это было в первый раз. Но при всей видимой безыскусности лимоновского позирования перед зеркалом в нем отражается образ, созданный исключительным мастером деланья имиджей, как бы случайно выстраивается судьба, до тошноты литературная.
Лимонов родился в Харькове в конце войны. Начав простым рабочим, он… К такой сухой биографической справке никак не сводится то, что под пером Лимонова, сохраняя всю ощутимую обыденность, приобретает масштаб и поступь легенды. Герой восстал из самой черноты, из самой глубины – со дна моря народного – и прошёл через ряд черных испытаний: черное блатное детство, черную грязную работу, черную московскую богему, шитье черных бархатных штанов, черную зависть литературной клики, черного негра из черной нью-йоркской ночи и т. д. Но в черной агрессии обступившего черного мира есть нечто стабильно белое: белый бледный Эдичка в дивном белом костюме, в сверкающих брюках, до Страшного Суда облепивших его нежную белую попку. Ее оттопыренности, как известно, завидовала сама Эдичкина жена – белая прекрасная Елена.
В этом мире Елена – то белая, то черная – единственная точка пересечения, где заданные световые полярности на мгновение сходятся, чтобы навеки разойтись. Черно-белую Эдичкину судьбу определяет сюжет сказки о Золушке, развивающийся по спирали: новый круг сообщает новое качество. В первом круге уже упомянутая Елена выступает не столько в роли принцессы, сколько в роли принца. Бедной харьковской Золушкой приезжает Лимонов в Москву – шьёт для заказчиков штаны и заодно себе – на бал; ан глядь, он уже знаменитый поэт, женат на профессорской дочке Елене и танцует с ней на вечном празднике жизни, устроенном в семидесятые годы венесуэльским послом Бурелли.
Кончен пир, умолкли хоры, опорожнены амфоры – супруги в Америке-разлучнице, надругавшейся над всеми сказочными законами. И прагматичный принц уходит от своей Золушки к красношеим аборигенам потому только, что они могут платить. Оставленная Золушка-поэт моет в Нью-Йорке посуду, пребывая в воспоминаниях о Бурел- ли и невозможности поделиться ими с аборигенами – по незнанию языка. Время от времени она отправляется за принцем, ища его среди крепких черных парней манхэттенского дна. Зассанный подъезд – невольный приют своей любви – Эдичка-Золушка честно принимает за дворец – это не моя фантазия, это фантазия героев, описанная в романе. Но за обольщением следует разочарование, и всякий раз Эдичка сухо констатирует: не тот. Тем оказывается, как и положено, все-таки не нищий, а миллионер: к нему Золушка пристраивается пусть не принцессой, но мажордомом. Так закончился круг второй.
Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названья городов – и новый круг уже в Париже. А годы не те, и не те желанья, и не так манит головокружительная партия, как тихая спокойная жизнь под сенью Закона. Новый принц уже не женщина и даже не мужчина, а коллективный соборный орган. В роли головокружительной партии выступает коммунистическая партия: с помощью ФКП Лимонов получает вожделенное французское гражданство.
Педантично докладывая о новом круге в своей прозе или статьях, скажем лучше, в свидетельском тексте, Лимонов описывает события, развивающиеся по одной и той же неумолимой логике: изначальная честность – страдания-мытарства – вожделенная награда. И уже неважно, то ли он сам мифологизирует пространство, то ли жизнь у него такая. Важно, что всякий, попадающий в поле его зрения, начинает функционировать по законам персонажа, становясь литературным героем с литературной судьбой. И вполне житейская история его бывшей супруги выглядит сочинённым эпилогом к «Эдичке»: отстрадав своё за неверность, так и не сделавшись знаменитой нью-йоркской фотомоделью, она нашла успокоение в Вечном городе, став графиней Щаповой де Карли и автором романа «Это я – Елена».
Особенности лимоновского мифотворчества живо обсуждаются сейчас, когда он, видимо, пошёл по четвёртому кругу, решившись хотя бы духовно вернуться на родину своими статьями в «Советской России». Поменяв ФКП на РКП, он заделался любимым автором газеты, выступая на протяжении последнего года с регулярностью постоянного обозревателя. Но если б под статьями не было подписи Лимонова, то об авторстве мудрено было б догадаться. Прав Бродский – зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Но не до такой же степени. Лёгкий на подъем Эдичка пишет в «Советскую Россию» с одышкой, как кирпичами ворочает. Продраться сквозь его необъятные газетные простыни под силу немногим ценителям. Тяжёлый и вместе с тем истеричный прохановско-бушинский стиль выдержан здесь с блеском литературной версификации. Чего стоят одни названия: «Две капли в море прозрения», «Ждут живые и павшие». Воля ваша, мысль о том, что нас разыгрывают, возникает сама собой.
Сидя в далёком Париже, Лимонов с точностью снайпера выбирает как раз те темы, которые и без него замусолены до блеска штатными сотрудниками газеты. Две капли в море его прозрения относятся целиком на счёт Шеварднадзе. Понятно, почему местные авторы «Советской России» так трепетно воспринимают бывшего министра иностранных дел: это ненависть партийцев к собственным ренегатам, куда более острая и живая, чем к любой демократической Новодворской. Но что Эдичке Гекуба? Зачем он выдавил из себя две капли и бережно пронёс их через государственные границы? Ему что, Шеварднадзе в суп написал?
Нынешняя лимоновская публицистика вызывает даже не протест, не досаду и – упаси боже! – не желание с ним спорить, а одно чувство недоумения: зачем ему все это? И, думая над самому себе заданным вопросом, отчётливо понимаешь, что у него нет другого выхода. Всегда ставя на скандал, будучи сам олицетворением скандала, он не умеет иначе самовыражаться. Так было пятнадцать лет назад, в пору «Эдички», так осталось и сегодня. Но если тогда было достаточно одного негра, то сегодня не спасёт и целый полк. Никто и бровью не поведёт. Единственным способом привлечь к себе внимание, безотказным до сих пор способом, является бушинско-прохановская интонация, на которую наша интеллигенция по-прежнему реагирует, как лошадь на звук боевой трубы.
Поэтому чем грубее, чем топорнее, тем лучше. Поэтому над лимоновской статьёй «Ждут живые и павшие» гордо реет девиз: СССР не последняя империя, а многонациональное государство. Этот набор бессмысленных слов и есть звук трубы, который сам по себе, может быть, и имеет для него значение, но, думается, второстепенное. Точно так же, как эстетическая новизна сцены с негром волновала его в последнюю очередь. И сейчас, и пятнадцать лет назад для него было важно любой ценой взойти на помост и оказаться перед нами в ослепительно белом костюме с ослепительно белой душой, несущей добро и красоту. И чтобы все признали: Это он – Эдичка.
В сущности, споры, которые велись вокруг Лимонова на московско-ленинградских кухнях конца семидесятых годов, были во многом пустыми. И роман совсем не случайно выпал из дальнейшей полемики «шестидесятников» и «восьмидерастов». По отношению к «Эдичке» они были одинаково не правы – и те, кто обвинял роман в отсутствии морального пафоса, и те, кто ему за это аплодировал. С моральным пафосом в «Эдичке» все в полном порядке. В этом смысле роман, в своё время зачитанный до дыр, оказался попросту непрочитанным.
В современной русской литературе трудно найти другой роман, отличающийся таким прямым открытым морализаторством. Но и внутри самой книги глава «Крис» – сцена с негром на пустыре – высочайшая патетическая нота в Эдичкином моральном регистре. Два люмпена, два одиноких, не нужных никому человека, негр и вэлферщик, сошлись на пустыре Великого города, космически равнодушного к их отринутости. Сошлись для кровавой драки и кончили любовными объятиями, по-детски беззащитно уснув друг на дружке. Если отбросить некоторые физиологические подробности, то выйдет гимн маленькому человеку, униженному и оскорблённому, способный вдохновить самого Короленко.
В эстетическом плане именно это было самой большой новацией: помещение пафоса Короленко в глубоко чуждые ему обстоятельства Жана Жене. Вряд ли кто-нибудь из «профессиональных» писателей сегодня осмелился бы на подобное. «Профессиональный» писатель эпохи постмодернизма насквозь пронизан иронией, от которой Эдичка божественно свободен. Из-под его пера вышло повествование, по-своему совершенно уникальное: роман без автора, без того неизбежного сегодня остранения, которое столь же неизбежно занижает любой драматизм. Освобождённый драматизм вырвался на волю, представ во всей своей ошарашивающей непосредственности.
Много лет спустя в статье для «Советской России» «Душа Иванова при переходе от социализма» он в иносказательной форме, изображая некого собирательного, живущего в стране Советов маленького человека, попробует достичь того же драматизма, того же накала, но надутый пустотой шарик лопнет, повиснув тряпочкой. Публицистика Лимонова куда хуже его романа не потому вовсе, что идеи у него плохие – никаких идей там вообще нет, а потому только, что, выражая себя иносказательно, он бесповоротно проигрывает. Подлинное страдание становится фальшивым. И, испытывая чувство мучительной неловкости, хочется спросить: зачем ходить кругами? За взвинченными общими местами лимоновской публицистики смутно угадывается личное и важное – то, что толкнуло Эдичку в его «четвёртый круг», в Россию. Этой Россией недаром стала «Советская Россия». Лимонов хочет вернуться не куда-нибудь, а туда, где был молод, счастлив и любим Еленой. А это была именно советская Россия, и никакой другой она не могла быть, и никакой другой не должна быть вовеки. Для Эдички, не склонного к остранению и праздным поискам утраченного времени, прошлое существует в реальности, как бы где-то застывшее, и ценно только тем, что в любой момент его можно физически ощутить и заново пережить. За политической риторикой типа «СССР не последняя империя, а многонациональное государство» стоит менее всего политический смысл. За этой риторикой – мольба о пощаде да глухая ненависть к злым дядям и тётям, к Шеварнадзе с Т. Толстой, задумавшим погубить Эдичкино прошлое, сделавшим так, что возвращаться ему некуда и незачем. Играя в бушинско-прохановскую риторику как в лучшую игру, способную привлечь к нему внимание, Лимонов выбирает самый действенный, но чужой скандал. Выходит «охранение», выходит «литература», профессиональное писательство вялой публицистики, нечто прямо противоположное тому, что породило успех «Эдички».

Тогда получился замечательный роман, написанный его персонажем, нечто подобное тому, как если б коллизии Достоевского начал изображать Смердяков. Получилась картина пленительная и отвратная, но от которой русский Нью-Йорк уже неотделим навеки. Получилась история любви и утраты, горькой любви Эдички и Елены, самой чистой любви, рассказанной самыми грязными словами. Получился истошный вопль, исполненный последнего отчаяния. Вопль, созывавший сирых и убогих на войну со всемирным заговором билдингов, на борьбу одновременно с Кремлем и Белым домом, на баррикады, где Эдичка – весь в белом, а перед ним мир – весь в черном.
Так и застыл он в этой позе на баррикадах, застыл на десятилетия, а бархатные штаны, сшитые еще в Москве, тем временем вытерлись и вышли из моды, а белый костюм обвис и не обтягивает уже самой оттопыренной в мире попки. И строчит Эдичка статьи в газету «Советская Россия», описывая то увиденный по телевизору «помпезный военный парад» в Вашингтоне, где «много тысяч мясистых молодцов в маскировочных пятнистых хаки», то «появившихся в советской жизни спортивного вида молодчиков-рэкетиров». Описывает плюралистически и грустно, жалуясь одновременно и на американскую, и на советскую угрозу. Жалуясь единственно на то, что угрозы больше нет, – и суждено ему отныне щупать «много тысяч мясистых», лишь водя рукой по экрану телевизора. Жалуясь, как некогда в романе, крича криком и переходя на шёпот, только еще отчаяннее, еще беспомощнее, потому что в неотвратимо наступающей старости, в ночи, сменяющей сумерки, даже он, белый, станет черным. Жалуясь уже вполне бескорыстно, как Золушка, давно не ждущая принца, истоптавшая все свои хрустальные башмачки.
1991