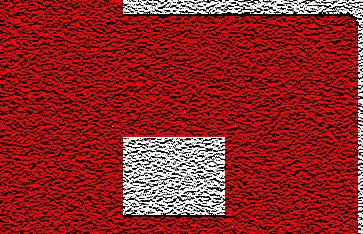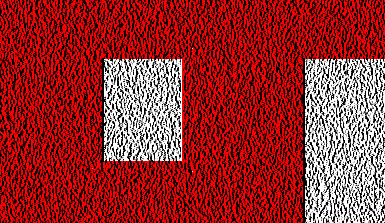«Зло, особенно политическое, всегда плохой стилист»
Стихотворения Иосифа Бродского во все времена занимали умы думающих людей по всему миру, сегодня его поэзия также актуальна, как и много лет назад
В это воскресенье, 24 мая, во всем мире отмечают 80-летие со дня рождения Иосифа Бродского, великого классика русской литературы, Нобелевского лауреата и просто человека невероятной харизмы.

Почему литература не должна говорить на «языке народа» и как хорошие книги защищают от пропаганды – эти размышления из Нобелевской речи поэта актуальны всегда, но сегодня – особенно.
А его стихотворение стало «гимном» самоизоляции «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Избранные места из Нобелевской речи Иосифа Бродского
…Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней – и наиболее буквальной – формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности – превращая его из общественного животного в личность.
Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке.
Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия — равнодушие и разноголосие, на месте решимости к действию — невнимание и брезгливость.
Иными словами,
в нолики, которыми ревнители общего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу.
…Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь.
Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию — тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут.
…Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные, долговечные, чем любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемое литературой по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать — бесконечного, по отношению к временному, ограниченному.
По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства.
Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык, – последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не только возможность (часто реальность) преследований со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему – но всегда временными – очертаниями.
…Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике – всегда «вчера»; язык, литература – всегда «сегодня» и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной системы – даже и «завтра».
Одна из заслуг литературы и состоит в том, что она помогает человеку уточнить время его существования,
отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почётным названием «жертвы истории».
…На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории.
Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своём развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы.
Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятие «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышлёный младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный.
…Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии.
Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист.
Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем твёрже его вкус, тем чётче его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее.
…В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга – феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что «сапиенс» этот способен, книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это, в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению.
Бегство это — бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и подобию мы не были созданы, нас уже пять миллиардов, и
другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противоположном случае нас ожидает прошлое — прежде всего, политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями.
…Во всяком случае, положение, при котором искусство вообще и литература в частности является достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим.
Я не призываю к замене государства библиотекой – хотя мысль эта неоднократно меня посещала – но я не сомневаюсь, что выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя.
Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надёжным противоядием от каких бы то ни было – известных и будущих – попыток тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования.
Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.
Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру.
Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью: если же преступление это совершает нация — она платит за это своей историей.
Живя в той стране, в которой я живу, я первый готов был бы поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и вырос. Ибо сведённая к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия — это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции.
Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных миллионами же, – ибо то, что происходило в России в первой половине XX века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия – во имя торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу только, что – не по опыту, увы, а только теоретически – я полагаю, что
для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего.
И я говорю именно о чтении Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т.д., т.е. литературы, а не о грамотности, не об образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при этом восторг убеждения.
Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже; Мао Цзэдун, так тот даже стихи писал; список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного.
© The Nobel Foundation. 1987