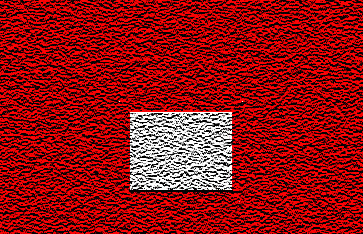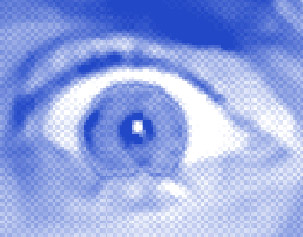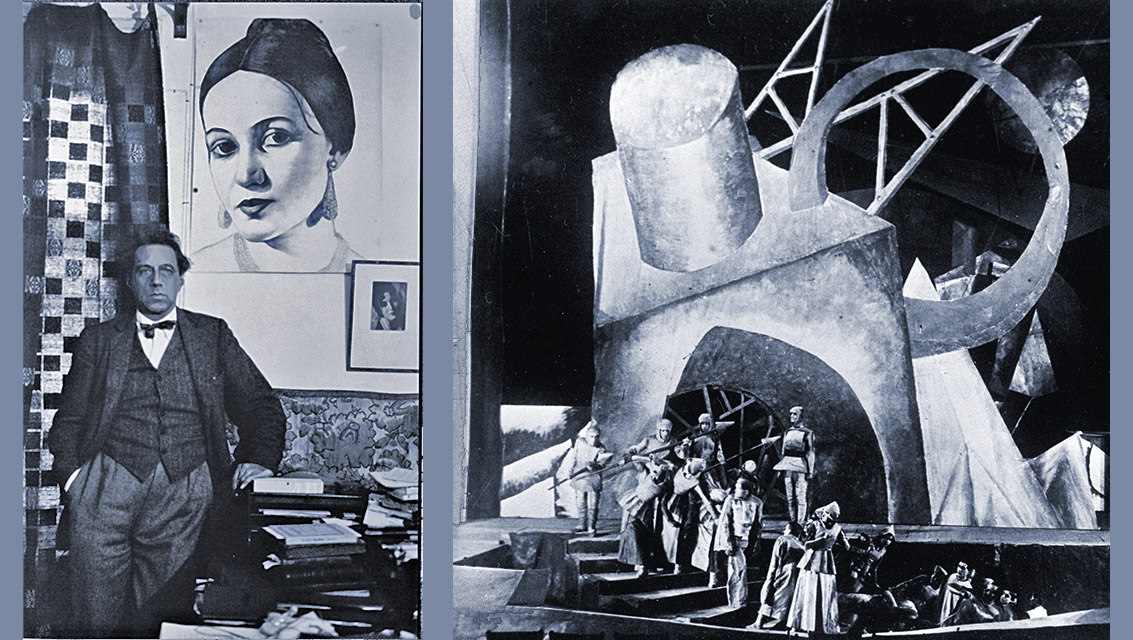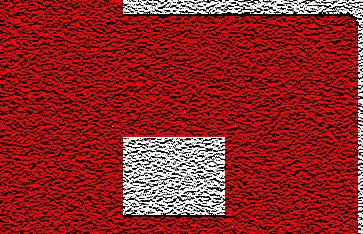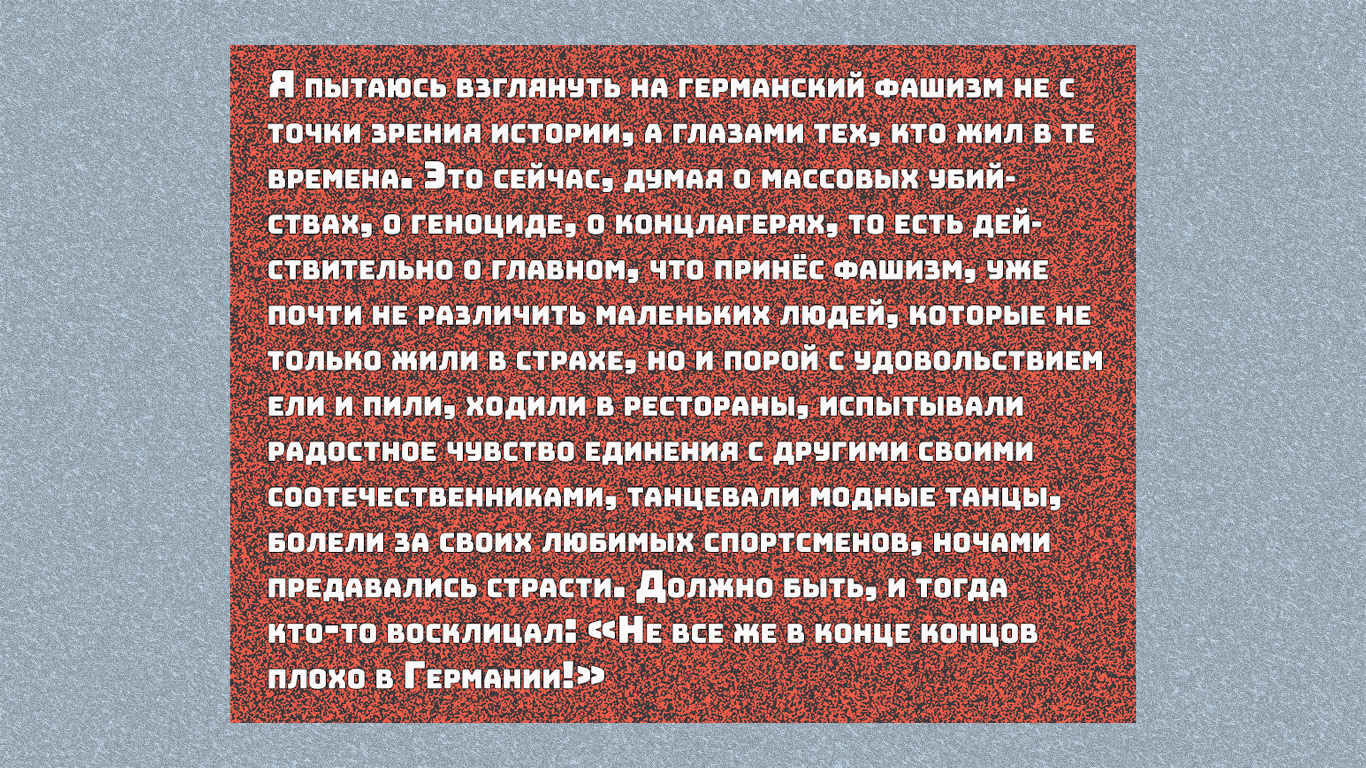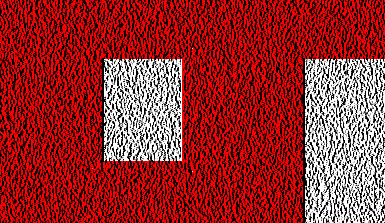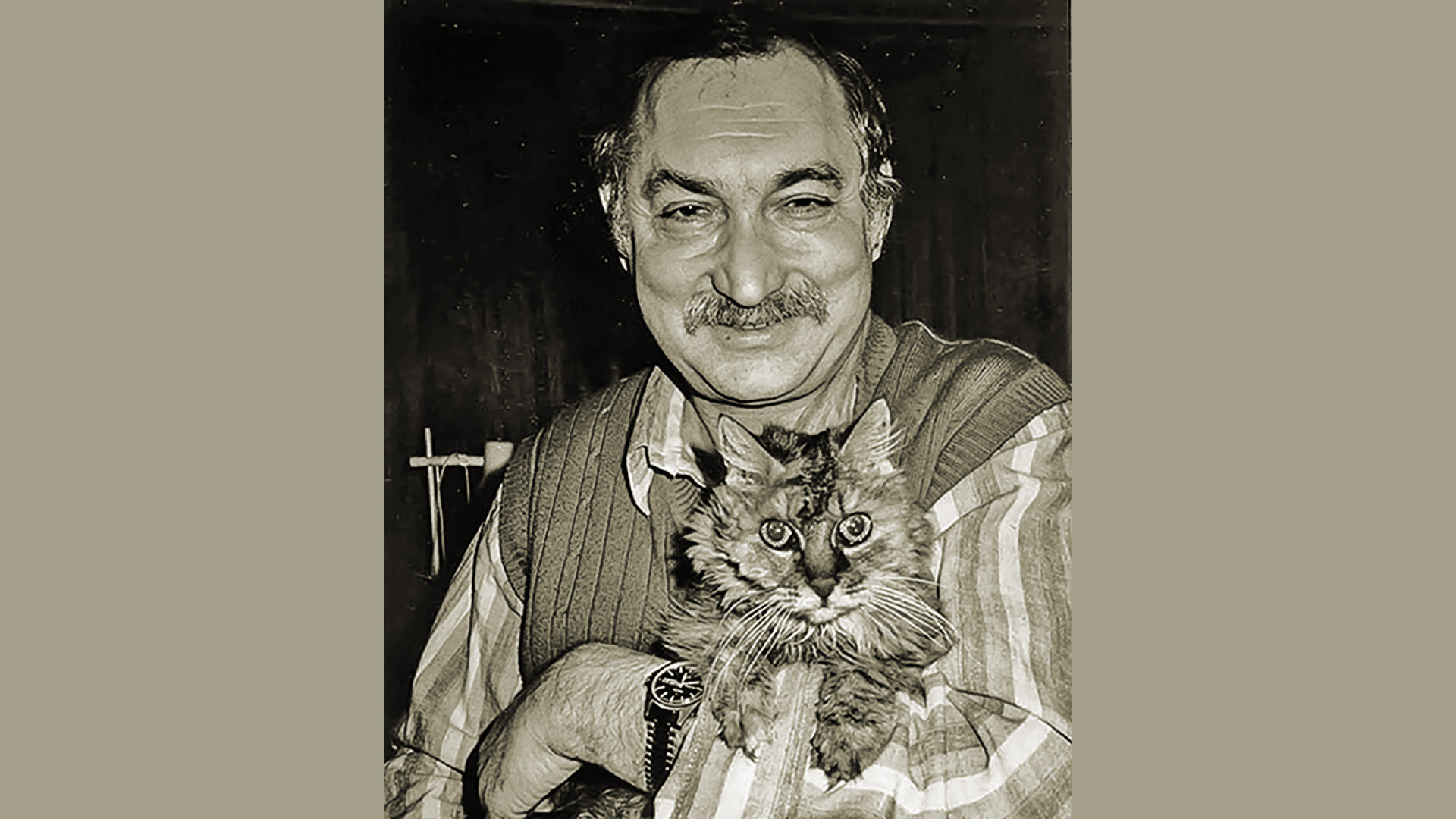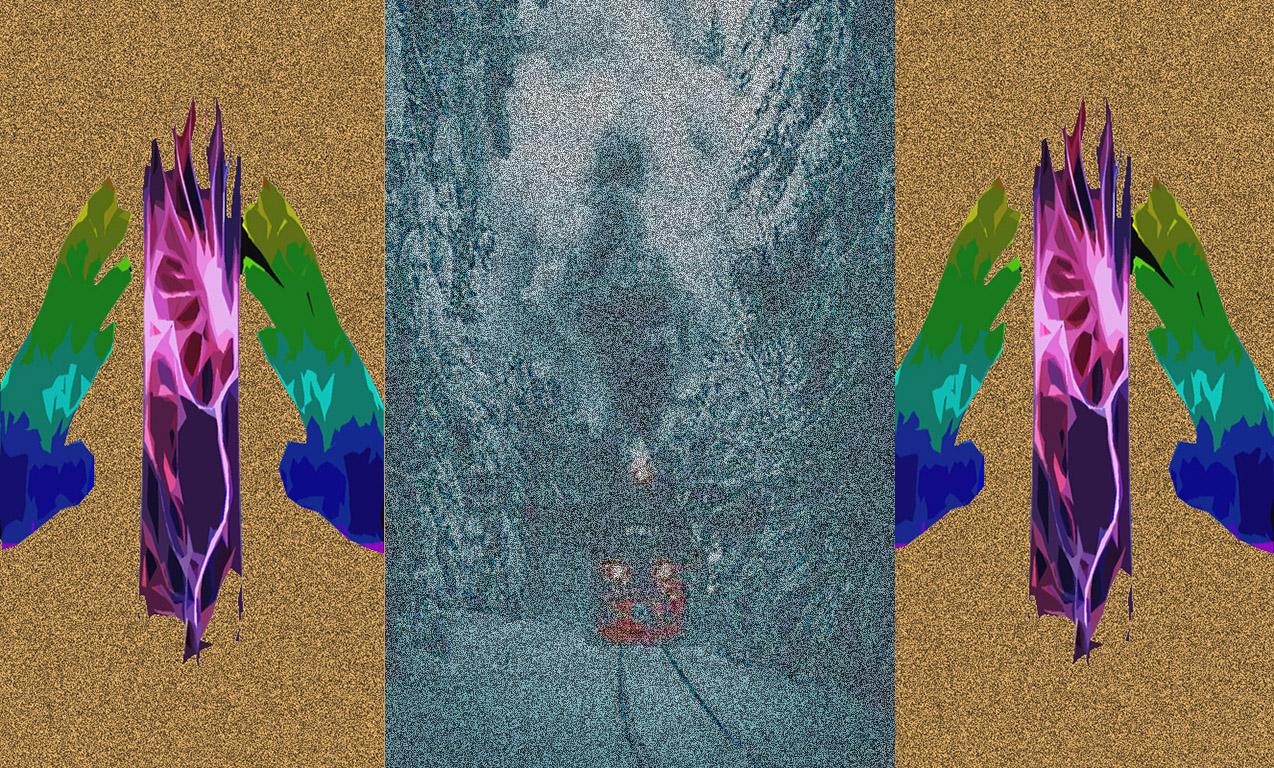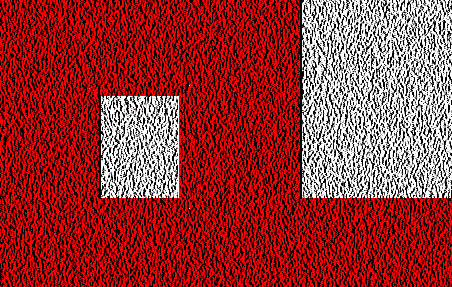Кризис
священного
и становление
этики ноосферы
Грубая пропаганда безбожия в нашей стране вызвала иллюзию, что кризис религии — это местное несчастье, и есть простой выход: возвращение назад, к неиспорченному православию, восстановление status quo ante 1917, или до Петра, или до Никона. Но храмы пустуют и в Англии. Кризис священного связан с нарастающей дифференциацией интеллекта, с самими основами наук, которые школа внедряет в сознание.
Один из параметров развития — рост дифференциации. В развитии живого организма этот рост уравновешен и — если не говорить о патологических отклонениях, — не приводит к разрастанию частей в ущерб целому. В развитии общества естественных ограничителей нет. Равновесие создаётся культурой. Если воспользоваться терминологией Сент-Экзюпери (из его «Цитадели»), культура связывает «дробность» целей и интересов «божественным узлом». Но если «дробность» быстро возрастает, старый «божественный узел» расшатывается и разрывается вовсе. Тогда под угрозой вся пирамида ценностей (чувство священного — ее краеугольный камень). Дело может тянуться веками, но в конце концов ценности, потеряв связь со священным, становятся ценностными привычками; а потом и привычки теряются. Многие древние цивилизации погибли от упадка нравов.
Современный Запад держится ценностными привычками, которые еще очень крепки (уважением к правам личности, чувствительностью к оскорблению этих прав, честностью в исполнении обязательств); в России, благодаря извращениям советского времени, расшатаны и привычки; но кризис священного — глобальный. Дробность (Достоевский назвал ее обособлением) превысила меру. Этот структурный кризис не всегда осознается как религиозный кризис. Современное мышление часто обходится без слова «Бог». Но целостность — одно из имён Бога. Достоевский интуитивно чувствовал это и во «Сне смешного человека» пишет с прописной: «Целое вселенной». Потеря целостности жизни, нарастающее чувство заброшенности, затерянности, оторванности от каких-то источников бытия стало почти непременным для мыслящего человека. Для иных — как стадия развития. Для других — навсегда. Это состояние выразил Камю, пустив в обиход слово «посторонний» (так в русском переводе). Стали поговоркой слова Сартра: «Другие — это ад».
Разумеется, большинство соотечественников Сартра и Камю не так глубоко переживают кризис. Кризис цивилизации не всегда есть кризис отдельного человека. Но существует общий закон: подступ к целому (а значит и к смыслу жизни) затруднён во всякой сложной цивилизации, и это противоречие обостряется в периоды нарастания сложности. Примитивная культура, именно в своей неразвитости, по незаметности перемен, без усилий обладает целостностью; бесписьменным народам не хватает частных знаний, инструментов, агрегатов, а целостность — не проблема. Для цивилизации это проблема, которая никогда не бывает до конца решена и постоянно должна решаться.
Когда католическая церковь добивалась отречения Галилея, она исходила из правильного понимания, что факты, видимые в телескоп, разрушают стройное здание средневековой культуры, и хотела «закрыть Америку» Правота Галилея означала кризис всей «буквы- Священного Писания. С этим вызовом христианство до сих пор не вполне справилось. Образы священного, выразившие переживание некой тайны, само по себе бесспорное, как всякая очевидность, зафиксировали в текстах состояние наук двухтысячелетней давности. Потрясённое сознание метафорично. Григорий после смерти Аксиньи видит черное солнце. Он действительно видит солнце черным, он не поэт и не сочиняет метафоры и гиперболы. Для него солнце почернело. Иоанн Богослов увидел угрозу гибели, но пережил ее как всадников на белых и черных конях и небеса, свёрнутые, как свиток. Мы можем принять эти образы, эти метафоры мистического опыта только как поэтические метафоры. Нет физической тверди небес, на которой утверждён престол Бога с Сыном одесную Отца. Место Бога оказалось по ту сторону пространства и времени, то есть в царстве абсурда; ибо место — категория пространства и место вне пространства — абсурд. Остаётся повторить слова Людвига Витгенштейна в его «Логико-философском трактате»: «мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике».
В течение тысяч лет люди принимали образы, родившиеся в потрясённом мозгу духовидца, за факты. Это было всеми признано и навязывалось культурой. Потом культуры племён смешались в больших городах древности и возникло сомнение, какая метафора верна (это сомнение — один из источников философии). Чувство священной целостности было расшатано, и все цивилизации прошли через глубокий кризис Осевого времени. Выходом из него оказались мировые религии, заново утвердившие чувство священного и нравственный порядок.
Священное было вновь выражено двумя путями: новыми грандиозными метафорами еврейской Библии или культурой знаковой паузы, развитой в Индии и на Дальнем Востоке. Эти пути — без канонизации их — знает всякая культура, в том числе светская. Библейский слог повторен в «Пророке» Пушкина, в «Слове» Николая Гумилёва, а Мандельштам — интуитивно, без знания индийской и китайской традиции — воспроизводит передачу мистического опыта через свою неспособность передать ее, через шёпот и лепет: «Я слово позабыл, что я хотел сказал». Примерно так Яджня-валкья повторяет: «не это! не это!». А Лаоцзы пишет (на две с половиной тысячи лет опередив Silentium Тютчева и Мандельштама): «Знающие не говорят, говорящие не знают.
Религии, победившие в Средиземноморье и на прилегающих к нему землях, утвердили приоритет ««гумилёвского» стиля над «мандельштамовским». И этот «гумилёвский» стиль оказался под угрозой:
Но забыли мы, что осиянно,
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мёртвые слова.
Святые отцы знали, что «о Боге можно только лепетать-, что «Бога можно почтить только молчанием», но эта мудрость оказалась в забвении. Она никогда не была доступна народам, даже на Дальнем Востоке, родине Лаоцзы. Буддизм в своём первоначальном виде обращался только к людям с философским складом ума; как народная религия, он создал свою образность. Поэтому кризис религиозной образности затронул и его. Но в христианской цивилизации этот кризис особенно глубок. Чтобы найти выход, необходимо многое.
По крайней мере, необходимо понять, — и это во-первых, — что только частное, дробное (или отвлечённое знание, аспекты, оторванные от целого) может быть высказано точно. Реальность целого и вечного не выразима научно, только поэтически: метафорами, гиперболами, фигурами умолчания (знаковыми паузами).
Во-вторых, необходимо убедить людей, лишённых собственного мистического опыта и вооружённых наукой, что бесчувствие к Богу — их личный недостаток. Противится эгалитаризм современности, отказ от иерархии духовной глубины. Действует логика тургеневского персонажа, Пигасова. Цитирую по памяти: «Читал Гегеля и ничего не понял; либо он дурак, либо я дурак; но согласитесь, не хочется считать себя дураком…» Пигасовы сегодня ссылаются на авторитет науки, хотя наука изучает только мир в пространстве и времени и не касается вечного. Паскаль был великим учёным, но у него был личный мистический опыт, и он не сомневался в реальности Бога, он знал Его.
В-третьих, трудно отделить веру в дух от веры в букву. Буквы разных религиозных традиций архаичны и несовместимы друг с другом. Привязанность к букве мешает прийти к пониманию общего духа великих религий. А без понимания этого общего духа разные писания и даже разные толкования одного писания сталкиваются и разрушают друг друга. Между тем, без известной общности в понимании священного нельзя утвердить глобальную систему этических норм на нашей земле, такой огромной для пешехода, и такой маленькой для межконтинентальной ракеты.
В древности философия очень помогла переходу от племенных религий к мировым. Она расшатала веру в племенных богов и очистила место для нового откровения, язык которого использовал завоевания философии. Философия оказалась полезной служанкой и для патристики, и для схоластики; а в Индии и на Дальнем Востоке понятия «философия» и «богословие» вообще не различаются. Поэтому я думаю, что философия может помочь и в решении современных духовных задач..
Одна из них — это задача скрытого имама. Есть шиитская легенда, что когда выйдет из своей пещеры скрытый имам, он не принесёт нового пророчества, — это догматически невозможно в исламе: но он так истолкует все прежние пророчества, что исчезнет вражда между народами книги (так мусульмане называют приверженцев великих неисламских религий). Думаю, что здесь действительно нужен не пророк, — и вообще не один авторитет», — а много мыслителей. Нужен новый стиль религиозной мысли. Нужно осмысление и смелое использование опыта разных канонических традиций и опыта мистиков, не вошедшего в церковный канон.
Я думаю прежде всего о мысли Рейсбрука Удивительного (мистика, жившего в XIV в.), неоднократно повторенной в его писаниях: «Второе пришествие происходит в душах святых». Это богословское открытие, сравнимое с открытием Коперника. Из интуиций Рейсбрука прямо вытекает взгляд и на воскресение Христа как на внутреннее чудо, в котором главное — не физическое исчезновение тела, не видения учеников, а преображение слабых, неустойчивых учеников в апостолов. Так, как это увидел Борис Пастернак:
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.
Опираясь на Рейсбрука, я рискну представить себе это чудо как воплощение Бога в учеников, — неполное воплощение, без принципиального разрыва между воплощённым Богом и святыми. Здесь можно опереться на вишнуитское учение о полных и неполных воплощениях и на буддийское представление о многих мирах, где в каждом свой Будда. Я мыслю себе то, что названо второй ипостасью Троицы, как непрерывный процесс боговоплощения, в разных углах вселенной, с разной степенью полноты. Другой мистик, Ангелус Силезиус (живший в XVII в.), объяснил мне, зачем Богу это нужно: «Я без Тебя ничто, но что Ты без меня?- Согласно Ангелусу Силезиусу, бытие Бога было бы неполным без воплощения в хрупкие временные существа, обладающие сознанием бесконечного, чувством Целого и свободой воли. И Бог (в учении о Троице Бог-Отец), пребывая в вечности, непрерывно прорастает в пространстве и времени. Для этого он и создаёт вселенную такой, чтобы в ней мог появиться человек (физики назвали это антропным принципом вселенной). Поэтому Бог поддерживает культуру, без которой человек невозможен. И человек должен помогать в этом Богу. Сегодня многие повторяют слова Папини (итальянский мыслитель XX века): «Богу надо помочь». Бог действует не из облака, а через наше сердце. Если оно откликнулось ему.
Человек призван к божьей работе, но не запрограммирован к ней. Он может отпасть от неё и дойти до разрушения ноосферы и саморазрушения. Его воля отклоняется от истины, когда нарушается иерархия ценностей и целей. Тогда блекнут, выцветают образы священного, придающие временной жизни вечный смысл. Человека охватывает уныние, он чувствует себя потерянным, заброшенным — или безумно воображает себя царём вселенной, готовым сотворить мир заново.
В наше время ценности и цели меняются каждые несколько лет; но все они сводятся к четырём, очень древним. Дальнейшие различия — это только оттенки, разновидности основных четырёх: дхармы (священного долга), артхи (богатства, власти), камы (наслаждения) и мокши (индуистский аналог нирваны, свобода от всех ограничений пространства и времени). Первые три цели социальны, понятны здравому смыслу: надо выполнять свой священный долг, заботиться о пропитании и положении в обществе и не отказываться от удовольствий. Мокша асоциальна и для здравого смысла — безумие. Аскет отказывается от наслаждений, от собственности, от долга перед предками и родными. Однако подвижник, достигший своей цели, накладывает отпечаток своего высшего Я на весь социальный порядок, обновляет чувство священного и оставляет живой след священного, на который люди веками будут оглядываться, прокладывая свой собственный след. Без этого краеугольного камня все здание культуры обречено. Если воспользоваться метафорой Сент-Экзюпери, прутики-цели, прутики-ценности, не связанные больше «божественным узлом», рассыпаются и по-отдельности будут переломаны. Забывается долг, переставший быть священным. На первое место вылезает артха — тогда складывается цивилизация господ Домби, где много богатства и мало радости. А затем, когда богатых охватывает скука, артха уступает каме — сладкой жизни. Древние цивилизации, перейдя к служению Каме, погибали; современной грозит то же — от наркомании, от СПИДа и от каких-нибудь новых бичей. Если не обновится чувство священного.
После Нерона и Калигулы начался сдвиг в сторону христианства. После паранойи Цинь Шихуанди Китай вернулся к Конфуцию и, продолжая движение к священному, принял буддийских проповедников. Процессы глобализации разрушительны для местных культур и требуют реставрации культуры на каких-то общих основаниях, соизмеримых с расширившимся пространством цивилизации. Так было в древности, и это позволяет многое угадывать в современных процессах.
История движется, повторяя, на расширенной основе, прежнее. Современность повторяет Осевое время. Я понимаю этот термин, созданный Ясперсом, в рамках единого религиозно-исторического процесса, в котором рождение философии было лишь одним из звеньев. Поэтому окончанием Осевого времени я мыслю не упадок греческой философии (II в. до Р.Х.), а возникновение ислама и установление прочной, дожившей до сегодняшнего дня системы четырёх культурных миров: христианского Запада, мусульманского Востока, Индии и Дальнего Востока. Географические границы этих миров сдвигались, но оставались неизменно четыре круга общения, связанные единым священным языком и шрифтом. Пространства латинского шрифта, арабской вязи, деванагари и китайских иероглифов сохранились по сей день. Духом этих пространств была общность символов, связывающих небо и землю, земное — временное устройство с вечностью.
* * *
Опыт показал, что все попытки создать единое земное устройство без единого неба не достигали длительного успеха. Единая администрация империи могла предшествовать единой религии или создаваться заново воинственной религией, но так или иначе земное здание подводилось под небесную крышу. Слово «небо здесь синоним мифа, как его понимал Даниил Андреев (системы символов, создающих образ целостной вечности).
До Осевого времени у каждого племени или группы племён или царства было своё небо. Народы крепко держались за него: в мифе, как в шкатулке Кащея, был спрятан смысл их жизни. Когда стали складываться разноплеменные империи, Эхнатон понял необходимость единой крыши, но народ, не подготовленный веками философской рефлексии, отверг реформу. Египтяне отказались от возможности создать свою империю под эгидой непривычного бога Атона; им дороже было привычное небо; и они добровольно выбрали роль провинции в начавшемся процессе глобализации. Даже впоследствии, когда христианство объединило Средиземноморье, копты, потомки египтян, сумели обособиться внутри христианства, сохранив верность моно-физитству. Подобным образом обособились и армяне, и ассирийцы, и сирийцы, и финикияне, избрав роль еретиков вселенской церкви (моно-физитов, несториан, монофелитов). Все древние народы уклонились от растворения в едином византийском этносе и приняли арабов как избавителей от религиозных преследований.
Этническое сопротивление глобализации шло и среди народов (первоначально варварских), не сумевших найти богословские альтернативы вселенской догматике. Верующие, не вдаваясь в тонкости, превратили Богородицу в королеву Польши, в державную владычицу России. Христос освобождается от своего обрезания и становится русским богом. В семинариях этому не учили, но такова была народная вера. И когда стали складываться современные нации, эта вера иногда порождала национальный мессианизм (польский, русский). У инока Филофея (XV в.) идея Третьего Рима еще одета во вселенские ризы, но у Шатова (в романе «Бесы») языческая воля к самоутверждению племени вырывается на простор, перескакивая через любые интеллектуальные барьеры.
Каждый шаг глобализации вызывает волну этнического сопротивления. Видимо, это входит в божественный план, и цель глобализации — не имперский стандарт, а диалог культур, втянутых Западом в единое информационное пространство. В этом пространстве древние мировые религии оказались в роли воюющих племён, сталкиваясь друг с другом и вместе отступая перед натиском дробного и дробящего знания. Знание все более и более зарывается в частности, все более дифференцируется и все более разрушительно для чувства святой цельности, воплощённого в древних мифах. Для дробящего разума Бертрана Рассела все мифы — нечто вроде предположения, что столы, когда мы их не наблюдаем, превращаются в кенгуру. И это лишнее предположение отбрасывается.
Развитие науки и техники каждый день расковывает новые сипы, не одомашненные историей, не нашедшие свою экологическую нишу, не уравновешенные в целостности культуры. Лекарства становятся ядами, открытия ведут к разрушению атмосферы, новые средства информации вытаскивают душу на поверхность, отрывают от ее собственной глубины, отдают во власть демонов. Инерция неуравновешенного развития гибельна. Разум историка может указать на примеры, когда подобные разрушительные силы сковывались духовными противовесами и цивилизации выходили из кризиса. Но сам по себе разум не может стать таким противовесом. Философские школы древности не остановили нравственного распада — ни в Риме, ни в Китае. Новая стабильность была создана мировыми религиями. Сумеет ли XXI век создать подобный противовес?
Некоторые учёные считают, что наука все может, и достаточно одной науки, чтобы цивилизация преодолела все кризисы; а если народы Юга не сумеют приспособиться к условиям выхода и погибнут, то это их дело: прогресс требует жертв. Опровергнуть такую точку зрения трудно; сциентизм делает неспособным видеть духовные измерения проблемы. Можно вспомнить, что превосходство Рима в администрации и праве не помешало духовной победе Востока, а выход был найден на основе компромисса: ex Oriente lux, ex occi- dente lex (С Востока свет, с Запада закон). Но готов и ответ сциентиста: все это не имеет никакого отношения к современности.
Так же неопровержима вера некоторых ее адептов, что их религия когда-нибудь сама, без конкурентов, спасёт мир. Хотя трудно представить себе, что монополия одной религии, не удавшаяся в течение многих веков, вдруг как-то состоится; а время не ждёт, и хочется как-то избежать катастрофы. Хочется всем, кто заранее не согласен на катастрофу и не ждёт светопреставления, второго пришествия и тысячелетнего царства, заранее пытаясь угадать «времена и сроки».
Я вижу выход в диалоге. Что я под этим понимаю? Приведу пример из книги Антония Сурожского «Духовное путешествие» (М., 1997): « По слову святого Иринея Лионского, «слава Божия — это полностью раскрывшийся человек». Путь для достижения этого извилист, и порой ради того, чтобы создавать доброе, мы вынуждены опираться на то, что в дальнейшем придётся искоренять. В жизни Махатмы Ганди есть весьма поучительный случай. В конце жизни его обвинили в непоследовательности. «В начале вашей деятельности, — говорили ему, — вы призывали докеров к забастовке, и лишь после того, как они победили, стали поборником непротивления». На это Ганди ответил очень мудро: «Эти люди были трусы; я сначала научил их насилию, чтобы преодолеть их трусость, а затем непротивлению, чтобы преодолеть это насилие». <…> Иногда нам необходим какой-то толчок, который исходит из далеко не самых благих наших намерений, лишь бы в дальнейшем мы преодолели эту незрелость. Мартин Бубер в своих «Хасидских рассказах» приводит случай с человеком, который спросил раввина, как ему избавиться от праздных мыслей. «И не пытайся! — воскликнул раввин, — других мыслей у тебя нет, и ты рискуешь остаться вообще ни с чем; Постарайся приобрести одну за другой хоть несколько полезных мыслей и они вытеснят праздные мысли». Это ведь очень близко по смыслу к притче о семи злых духах (Мф. 12, 45).
Диалог религий — это текст, в котором св. Ириней Лионский и Евангелие от Матфея мирно соседствуют с Махатмой Ганди, Мартином Бубером и хасидским рабби. Мы вступим, вслед за вл. митрополитом, на путь диалога, когда сельский батюшка в Татарии будет цитировать Джела- ледцина Руми, а после выступления Макашова священники найдут случай вспомнить «Хасидские рассказы» Мартана Бубера. Для этого нужны только две вещи: известная образованность и добрая воля, отношение к другим религиям как к добрым соседям, сонаследникам великого духа Осевого времени, у которых не стыдно и не грешно иногда поучиться. Именно в этом — суть экуменизма и суперэкуменизма (экуменизм — диалог внутри христианства; суперэкуменизм — диалог христианства с иудаизмом и исламом, с буддизмом и индуизмом). А конференции, съезды и т.д. — только средства дать толчок в нужном направлении.
Слово диалог здесь значит то же, что в политике: поиски согласия, примирения, общих точек зрения, общего языка. Быть может, таким общим языком станет некое глобальное богословие, для которого разные священные писания суть только разные переводы с божеского на человеческий, с целостного на дробный, и за разными переводами стоит один и тот же подлинник. Иначе говоря, нужно понимание, что все зрительные и слуховые образы, рождающиеся в потрясённом мозгу пророка или святого, суть только метафоры, преломления непостижимого белого света духа сквозь цветные стекла языка, личности и культуры. А потому разные откровения и догмы суть только разные иконы и выбор любимой иконы —
дело сердца, а не ума с его доказательствами. И почитание воскресшего не противоречит почитанию просветлённого.
Такая постановка вопроса нелепа для фундаменталиста. Его точка зрения совершенно логична и настолько же неплодотворна. Если суть религии, ее дух полностью совпадает с буквой, то нельзя искать единства за текстами. Тогда плод поисков — только уродливая смесь несовместимых понятий, основанная на лжи и подмене. Напротив, с позиций дзэн- буддизма, передающего свою традицию от сердца к сердцу, импульс дзэн совместим с любой религией. Во всяком случае, так считал Д.Т. Судзуки, создатель «мирового дзэн». И его призыв нашёл отклик у некоторых христиан. Есть книга католического монаха Джонстона (на англ, яз.), передающая опыт медитации в дзэнском монастыре, и книга архиепископа катакомбной церкви вл.Иоан- на «Христианство дзэн». Сторонники диалога могут повторять дзэнскую притчу: «Не надо смешивать луну с пальцем, указывающим на луну». Луну надо просто увидеть, и пример доброго соседа может иногда помочь.
Один из таких примеров, который поразительным образом забыт православными — то, что святоотеческая мысль связала вместе Афины и Иерусалим, Платона с Библией. Между системами, построенными по правилам аристотелевской логики, — пропасть абсурда. Но сознание, разработавшее учение о Троице и двух природах Христа, создало новые категории: единосущностъ, равночестность, неслиянность-нераздельность. Оно проложило гать через логический абсурд. Возможна эта гать и между нынешними мировыми религиями, несмотря на все несходство текстов. В конце концов, разница между человеком и Богом еще больше; а в догме они связаны «неслиянно и нераздельно».
Основная трудность, с которой религии сталкиваются, не в том, что размыты границы между наследственными уделами католичества, православия и других вероисповеданий, а в общем кризисе религиозной образности. Традиционное богословие плохо справляется с этой трудностью. Новые метафоры создают скорее поэты. У Мандельштама: «большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит», у Миркиной пространство и время — вечность, вывернутая наизнанку:
А может быть, когда-то
Вселенная вот также разбежалась
На тысячи, на мириады звёзд,
И каждая повисла одиноко
Не в силах дотянуться до другой…
И превратилась Вечность
В безликое, безмерное Пространство,
И Время, неимущее конца…
Как будто кто-то
Вдруг выворотил Вечность наизнанку
Во вне себя…
Такие парадоксальные метафоры вплотную подводят к тайне Бога — и оставляют нас там, где слово исчерпывает себя и уступает молчаливому созерцанию.
Язык, которым древние пророки передали своё чувство священной тайны, становится сегодня непонятным. Храмы всех религий пустеют, а богословы попрекают друг друга, — кто больше впал в ересь и прелесть.
Мы забыли, что Бог безымянный,
Мы забыли, что имени нет
У открытой зияющей раны,
У души, излучающей свет..
Если сердце пробито навылет,
Все, что смертно, рассыпалось в прах.
Боже святый, тебя мы забыли,
Спор ведя о твоих именах:.
(Зинаида Миркина)
Только преодолев первенство помрачённого ума, дробного и дробящего, можно увидеть множество как единство — и связать все великие культуры, не стирая их различий, божественным узлом. Это необходимый шаг к глобальной системе этических норм; ибо сегодня то, что для одних добро, для других зло. Однако сообщество культурных миров и мировых религий — не казарма коммунистических тираний и не карусель рыночной пошлости. Это сообщество может быть подобно перекличке инструментов в оркестре. И если можно говорить о европейском концерте культур, о европейском диалоге наций, то таким единством может стать и диалог (или концерт) пророческих монологов, создавших мировые религии. Это возможно, если Запад научится у Востока первенству духа над буквой, безымянного над именем.
Я готов согласиться с критиками бытового «экуменизма» (правильнее было бы назвать его синкретизмом), что стихийная путаница традиций уродлива. Но реальная исторически возможная противоположность хаоса, смешения всего со всем — не обособление, а диалог. Диалог организует общение, придаёт ему направление в глубину, от буквы к духу, который во все традиции пришёл из одного святого источника. Диалог позволяет внести порядок в пересечение следов разных культур, выводит из хаоса наплывов в новое, общее поле следов прошлых поколений, в некое сложное, но имеющее форму пространство, имеющее границы, очерченные веками, и в этих рамках прокладывает новые, современные следы. Диалог создаёт берега, направляющие течение; в диалоге болото становится рекой, началом нового ряда ориентиров.
Я не вижу другого реального, исторически возможного выхода из нынешнего болота, где потерявшееся «я» цепляется за потерявшееся «мы», «мы» следует за очередным ложным кумиром и оба — и «я- и «мы» — тонут в зыбкой трясине, где расплываются, исчезают следы. Диалог — не отказ от единства и цельности; Диалог Платона — пример единства. Диалог — это путь к восстановлению единства и цельности на новом уровне разрастания проблем, — если, конечно, это подлинный диалог.
Наша цивилизация очень изощрена в фабрикации суррогатов, подделок. Она подделала «я», заменив его подлежащим неопределённо-личного предложения, хайдеггеровским «man» (по-русски оно опускается или заменяется словом «люди» и т.п. «Люди говорят Какие люди? Всякие. И никто сам по себе). Массовые движения XX века были бегством от ущербного, запутавшегося «я» в полноту «мы», когда «каплей льёшься с массами». Это «мы» оказалось таким же пустым, бездушным и удобным для манипуляций, как растерянное «я». Чувство полноты жизни, которое давал коллективизм недавнего прошлого, — такая же подделка, такая же искусственная ёлка, без запаха живого дерева, как бездуховный индивидуализм.
Живое дерево — это диалог. В диалоге буква становится прозрачной и высветляется дух, живой опыт людей, которых коснулся Бог, прорастая сквозь пространство и время.