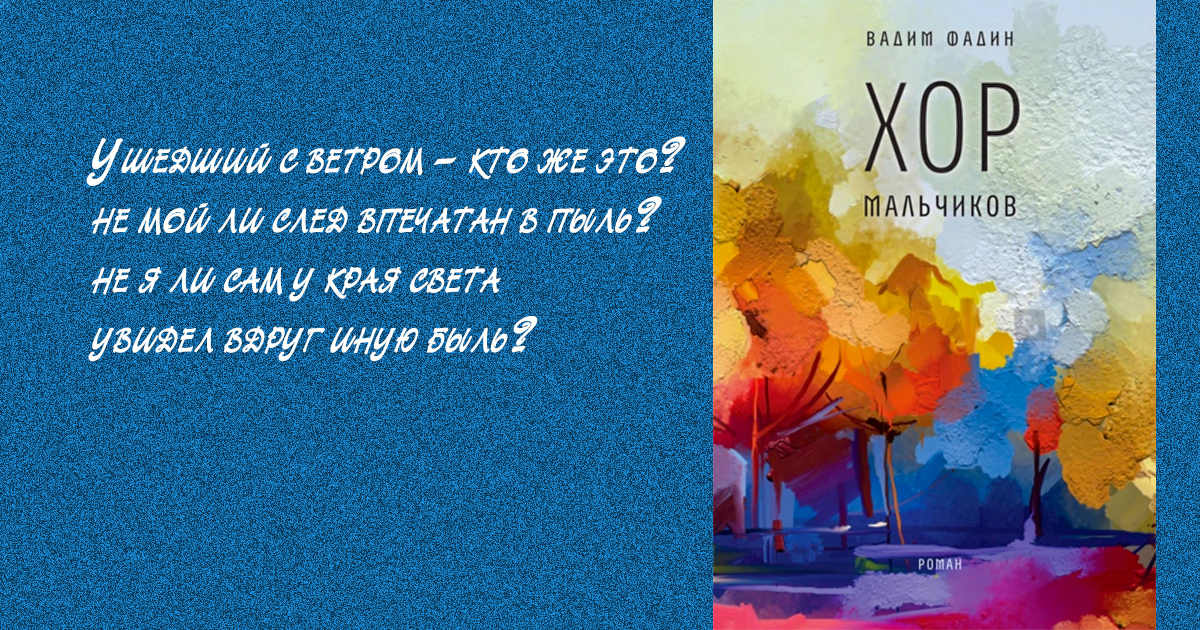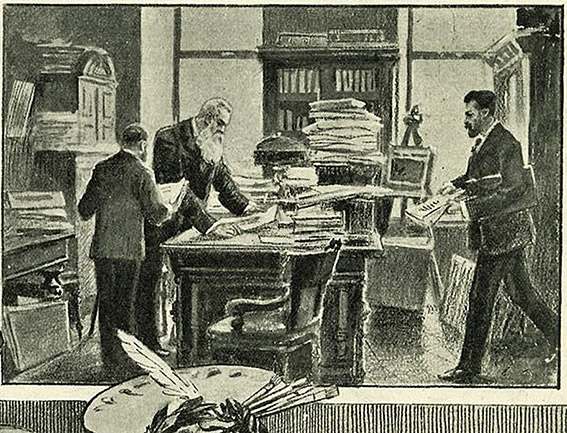Андрей Вознесенский
«Васильковый человек»
Когда в московскую золотую осень — после долгих темных лет запрета — в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Марка Шагала, поклонники живописи стояли по 20 часов, чтобы увидеть работы великого художника. Я посетовал на открытии выставки на то, что нет васильков, любимых цветов голубоглазого мастера, чтобы поставить их к портрету. Через день море васильков затопило музей — их несли охапками, вёдрами. Не знаю, откуда их привезли в осеннюю пору — видно, самолетами. Не странно ли, что этот воспетый Апухтиным полевой цветок стал любимым для решительного авангардиста, разрушителя канонов и сантиментов? А может быть, в этих синих остроугольных осколках отразилась режущая душу судьба художника, которого на родине считали сорным цветком, вредным для поля несмотря на гениальную голубизну его кисти? Или именно благодаря ей?
Он был поэтом от рождения. В фантастических плоскостях его картин летают зеленые беременные козы, красные избы и парят влюблённые. Его кочевой Витебск летал по миру.
Говорят, что обычно у художника язык в пальцах, что он разговорчив лишь на полотне. Шагал был художником, поэтом и в слове. В дневниках, в письмах, в стихах, которые он писал всю свою жизнь, он — васильковый человек, он раним, сентиментален. Я пытался переводить, вернее, писать вариации на темы его стихов. Удивительное совпадение его строф с его живописью — те же мотивы, та же, вопреки распространяемой клевете, неистребимая любовь его к Витебску, который он называл своим Парижем, вернее, Париж — Витебском. В стихах все неплотно, зыбко, мир как бы без скорлупы.
Среди возвращающихся сегодня к нам перелётных сокровищ духа — Платонов, Набоков, Мейерхольд, Филонов — число их велико!
Марк Шагал известен во всем мире прежде всего как художник. Его живопись в нашей стране вызывала неоднозначную реакцию зрителей и горячие дискуссии искусствоведов. Однако Шагал оставил и довольно обширное литературное наследие: опубликованное в различных зарубежных изданиях, оно мало известно в СССР и на русский язык почти не переводилось.
Шагал один из драгоценнейших. Не случайно его любили поэты — Маяковский, Ахматова, Аполлинер, Арагон. Поэтом он был и в иллюстрациях — подобно поэтичному черно-белому кино: летят страницы гоголевских «Мертвых душ». В графике он лаконичен, как в стихе.
… Его формулы искусства озарены, человечны, под спасительным флером иронии.
«Ангел над крышами»
Марк Шагал. Из книги «Моя жизнь» (Фрагменты)
* * *
Мать была старшей дочерью в семье. Отец ее, мой дед, половину жизни провёл на печи, четверть жизни — в синагоге, а что оставалось — на бойне. Он так любил полежать, что бабушка не вынесла всего этого и умерла совсем еще молодой.
Тогда и дед вроде зашевелился, как это делают разбуженные коровы или телята.
* * *
Мать давно умерла.
Мама, мамочка, где ты, на небесах, глубоко в земле? А я так далеко от тебя. Будь я поближе, я мог бы увидеть камень над могилой твоей, дотронуться до него…
* * *
Родился я мёртвым.
Мне не хотелось жить. Этакий светлый пузырь, не желающий жить. И весь до отказа наполнен живописью Шагала.
Вгоняют в него булавки, окунают в воду — наконец он издаёт тихий стон.
Да, я — мертворождённый.
Я не хочу, чтобы психиатры делали из этого вывод.
* * *
Ни висячая лампа, ни белое полотенце в темноте не пугали меня, если я лежал в постели у мамы…
* * *
Отец напоминал одну из фигур в Аггаде или на флорентийских полотнах… Целых тридцать два года катал и таскал он бочки с сельдью. Он поднимал тяжеленую бочку, а у меня сердце поворачивалось в груди, а потом он перетряхивал солёную рыбу мёрзнущими своими руками. Хозяин его, грубый, неотёсанный человек, стоял тут же, как мумия, и наблюдал…
* * *
Стол Субботы… Чистые руки отца, его лицо и белая праздничная рубаха умиротворяли меня. Отец был добрым. Потом подавали на стол. Ох, как же я любил поесть! Фаршированная рыба, кисло-сладкое мясо с морковью, лапша, холодец из телячьей ножки, суп, компот, белая хала. Обо всем этом я вспоминаю как о неповторимой жизни, наполненной смыслом.
Последний кус мяса перелетает из тарелки отца в тарелку мамы и обратно. «Съешь ты!» — «Нет, съешь ты!»
Отец начинает похрапывать, не успев даже помолиться. Что делать… Мать копошится у печки, напевая какой-то синагогальный мотив, мы подпеваем. Тут я вспоминаю про дедушку-кантора, про мельничку, вертящуюся у меня в сердце, и начинаю вздыхать, слезы льются из глаз. Мама, вся тоже в слезах, допевает мелодию, с трудом, навзрыд, уже растягивая слова. Свечи в комнате догорают, свечи в небе бледнеют…
* * *
В синагоге я постоянно вертелся около деда.
Весь извертелся!
А потом стану, бывало, у окна, в руках молитвенник, а сам выглядываю на улицу, озираю окрестности, весь субботний пейзаж.
От гула молящихся голосов небо густо синеет. Дома за окном отдыхают, чётче фигуры прохожих. За спиною молятся, деда вызвали к алтарю. Дед поёт и молится, молится нараспев, распевает молитву. Словно маленькая мельничка машет крыльями у меня в сердце. Словно мёд мне в душу тычет. Дед убивается, плачет и молится. Я тоже вдруг вспоминаю испорченный днём рисунок: «Господи, стану ли я великим художником?»
* * *
Дед…
Как-то, увидев у меня на листке обнажённую, он просто ее «не заметил».
И я понял, что ни деду, ни тёткам, никаким моим родичам моя живопись не нужна (да и что это за живопись, если ты на ней даже «не похож»?) Зато им нужно мясо.
Еще мне про деда рассказывала мать. Но возможно, мне это приснилось.
Какой-то праздник — Сукес или Симхестойрэ.
Деда ищут, не могут найти.
А дед, как всегда в ясный день, забрался на крышу, присел на трубу и хрустит себе сладкой морковкой. Сюжет, а? А то, что вы теперь знаете происхождение моих картин, что их тайна разгадана, — это мне все равно, можете радоваться!
* * *
Брат Давид. Чем я мог бы ему помочь? Туберкулёз. Кипарисы. Один вдалеке. Теперь он лежит, такой молодой, в крымской земле, и имя его мне сладостней дальних просторов, в нем — благоухание родины…
А когда-то мы спали с ним вместе, вдвоём на одной кровати.
По ночам мне казалось, что стены сходятся и расходятся.
Или вдруг — мышь.
Изловишь ее — и в брата. Он — с испугу — обратно, в тебя. Потом вместе отправляемся в угол — топить ее в полном горшке.
* * *
Каждую субботу дядя Ноех надевал талес и громким голосом читал Тору. Еще он играл на скрипке, как сапожник. Дед заслушивался и грезил. Только Рембрандт, я думаю, мог бы узнать, про что думает этот старый дед, мясник, торговец, кантор, слушая, как его сын играет на скрипке, стоя у грязных окон, покрытых тяжёлыми каплями дождя и следами чьих-то пальцев. Там, за окном, ночь. Дядя играет. Целый день он ходил за скотиной, а теперь выводит на скрипке какой-то раввинский мотив. Плоховато играет. Я осматриваю его, его скрипку, нос и карманы. А он знай жужжит, как муха. Голова у меня уже тихо летает по комнате. Потолок — прозрачный. Облака и синие тучи входят в дом вместе с запахом поля, конюшни, дорог. Меня клонит ко сну…
* * *
Лампа горит на столе. Густая черная тень ложится на занавеску. Дядя Израиль читает и раскачивается. Раскачивается и поёт, молится и вздыхает. Голубые звезды. Фиолетовая земля. Двери в домах запираются. Скоро вечеря. Почему я не умер у вас, тогда, под столом? Господь да простит меня, если, описывая все это, я не вложил в слова телячью любовь мою к людям — ко всем на земле. Но мать и отец для меня в большей мере святые, чем все остальные. Я так их люблю…
* * *
На Йом-Кипур я не в силах бывал держать пост до конца и на вопрос мамы: «Ты постился?» — отвечал ей, как обречённый: «Да-а-а…»
Нескончаемый день! Возьми меня, Господи, приблизь ты меня к себе, если ты есть, сделай меня лазурным, лунным, чудесным, спрячь меня в орн-койдеше, рядом с Торой, соверши что-нибудь для меня, сделай что-нибудь, Господи!
Скоро встанет Луна… Свечи догорают, трепещут последними огоньками. То ли свеча дотягивается до Луны, то ли Луна сваливается нам на плечи…
В лунном свете дорога — молится… Плачут дома…
* * *
А Пасха! Ни маца, ни хрен не волновали меня так, как Аггада и красное в полных стаканах вино. Мне хотелось опустошить все стаканы! Нельзя, невозможно. Вино в стакане отца временами казалось более красным. Оно сверкало темно-фиолетовым королевским пурпуром, светом всех гетто, предназначенных моему народу, сиянием знойной пустыни, пройдённой в стольких страданьях…
Отец, подняв стакан — посылал меня отворить дверь1.
Пучок звёздных посеребрённых стрел из бархатно-голубого неба врезался мне в глаза, в сердце. Но где же Илия в светозарной своей колеснице?
* * *
Мои тётки, Муся, Хая и Гуча! На ангельских крыльях летали они по базару — над корзинами ягод, винограда, груш…
* * *
Земля, в которой спят мои мать и отец, — это все, может быть, что осталось у меня дорогого сегодня. Может быть, Господь даст мне сил, чтобы я сумел выразить на полотнах своих мой плач, молитвенный
вздох, мольбу о спасенье…
* * *
Белые свечи для умерших — для мамы, отца, брата, деда — в ящичках черной земли: как пылающие гиацинты.
* * *
И с чего это вдруг я запел?
Как взбрело мне на ум, что голос мне дан не для того только, чтобы орать и ругаться, перекрикивая сестёр?
Я мог закричать так громко, как только хотел. Прохожие, шарахнувшись, оборачивались. Откуда было им знать, что это я — пою? «Он что, с ума сошёл? Чего он орёт?»
* * *
Меня взяли помощником к кантору. По праздникам я вместе со всей синагогой слушал свои высокие ясные трели. Все вокруг улыбались, и я предавался мечтам: «Стану кантором и поступлю в консерваторию».
Во дворе у нас поселился скрипач, откуда он приехал — не знаю. Днём он работал приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал нас музыке. Я научился водить смычком, и, хотя звук был ужасный, он всякий раз восторгался и кричал, отбивая ногой такт: «Превосходно! Прекрасно!»
И я предавался мечтам: «Стану скрипачом и поступлю в консерваторию».
Мои родственники в Лиозно иногда приглашали меня с сестрой потанцевать. Приглашали нас и соседи. Я был стройный, юный, волосы так и вились на голове. Я танцевал и предавался мечтам: «Стану танцором и поступлю в…» Куда поступают танцоры — я не знал.
Днём и ночью я сочинял стихи. Они нравились окружающим. И я предавался мечтам: «Стану поэтом и поступлю в …»
* * *
Мать надумала определить меня в школу. Когда мы уже подходили, мне пришла в голову мысль: «Ну конечно, на уроке у меня схватит живот, а мне не разрешат выйти…»
Но соблазняла кокарда. Я прикреплю ее к фуражке и, когда поравняюсь на улице с офицером, — отдам ему честь…
Евреев в гимназию не принимали. Мама решительно направилась к одному из преподавателей. Этот нас выручит, с ним можно договориться. Полста рублей — не так уж и много. И поскольку он ведёт третий класс — я поступаю сразу в третий…
* * *
Я не все понимал. Спросит, например, учитель мальчика, глубоко заглядывая ему в глаза: «Ну что, Володя, опять?» — а мне непонятно: что — «опять»?
Уходили дни, а я так и не понимал этого. Другим школьникам это было, видимо, ясно, потому что они смущались и заливались краской.
Наконец я не выдержал и как-то спросил об этом однокашника, когда мы возвращались из школы.
— Глупый ты, что ли? — отвечал он с дурной улыбкой. — Володя занимается этим самым… — и он произнёс слово.
Я опять ничего не понял.
Попутчик мой хохотал.
Господи, как изменился мир, как мне в нем все грустней и грустней… Именно тогда, в те дни, я и стал заикаться. Может быть — из протеста?
Выучу, бывало, урок на отлично, а отвечать не иду. Смех смехом, а в общем — трагедия… Сплошные нули…
* * *
Я увидел большую вывеску, вроде тех, что висят над лавками: «Школа .живописи и рисования художника Пэна».
«Все, — решил я, — хватит перебирать! Поступлю в эту школу и стану художником».
Чем я там занимался?
Перед нами ставили гипсовую голову.
Надо было ее срисовать.
Я брался за это со всем старанием.
Приставлял карандаш к глазам, вымеряя пропорции.
И опять ошибался.
И нос у Вольтера свисал все ниже и ниже.
* * *
Пэна я люблю. Так и нижу его силуэт — дрожащий, нечёткий. Я помню о нем всегда, как я помню отца. То и дело проходит он в моих воспоминаниях — по тихим пустынны м улицам родного города… Сколько раз, являясь к нему, я готов был его умолять: «Не нужно мне никакой славы, стать бы только таким тихим умельцем, как вы. Всегда оставаться с вами, рядом, в вашем доме, — ну хоть картиной повиснуть среди ваших картин! Разрешите, а?»
* * *
Мать стучится ко мне: «Ты здесь? Ты занят? Белла уже приходила? Ты не голоден?»
— Мама, посмотри, тебе нравится?
Мать рассматривает картину. Господи, какие у неё глаза!
Я жду. Потом она говорит: «Я, сынок, вижу, у тебя и вправду способности… Но лучше б ты, сын, шёл в приказчики, с твоими-то плечами… Господи, да откуда ж это свалилось на нас?..»
* * *
Свет попадал в мою комнату через единственное окно. Свет был темно-синий, шёл он издалека, со склона холма. Там стояла церковь.
Всякий раз мне так сладостно было писать эту церковь и склон.
От счастья я грохался на кровать и подскакивал, задрав ноги.
Пропылённая комната. Холсты на стенах. Стол. Стул.
Белла. Она тихо стучит в дверь своим тоненьким пальчиком. Входит, прижимая к груди необъятный букет, груду смутно-изумрудной, в красных пятнах, рябины.
— Спасибо, Белла.
Нет, не то.
Сумерки, и я целую ее. А в голове уже — прекраснейший натюрморт. Белла лежит обнажённая, светящаяся, мягко очерченная. Белла позирует мне. Мне страшно. Я ей признаюсь, что еще никогда не видал обнажённых. Мы уже, можно сказать, жених и невеста, но как страшно приблизиться к ней, коснуться ее…
Я повесил этюд на стену, а назавтра входит мама и видит его.
— Что это?
Женщина. Груди, тёмные вишни сосков. Я смущён и растерян, мама тоже.
— Убери эту…
* * *
С 27 рублями, в первый и последний раз полученными у отца, я собираюсь в Петербург — учиться живописи…
Как всегда, отец торопливо разогревает себе чай в самоваре и замечает: «Можешь ехать, но имей в виду, денег у меня больше нет. Это все, что я мог собрать…»
* * *
Стол в комнате — весь завален записками, бумажками с просьбами и молитвами. Ребе — один, сидит за столом, перед ним свеча. Он читает мою записку, глядит на меня.
— Значит, ты хочешь в Петербург? Что ж, если
тебе там будет лучше — поезжай. Я благословляю тебя.
— Да, ребе, но мне так жаль оставлять здесь родных…
— Значит, ты хочешь остаться в Витебске? Я благословляю тебя.
А я-то думал, разговор у нас выйдет нескорый, у меня к нему было столько горячих вопросов. Мне хотелось побеседовать с ним о живописи, о себе. Он мог бы, наверное, подбодрить меня, воодушевить… Я хотел расспросить его про избранность, про еврейского Бога, про Библию. И про то, что он думает о Христе, чей ясный лик давно уже тревожит мою душу…
Я распахнул дверь и вышел на улицу. Дома ждут меня… Лунный свет заливал землю, слышался лай собак…
Господи, что ж он за ребе такой, этот прославленный реб Шнеерсон?
* * *
«Господи, ты, затаившийся в дальних высях за тучами или где-нибудь здесь, за этой вот будкой сапожника, Господи, помоги мне раскрыть мою душу, душу неприкаянного заики, не находящего себе места, укажи ты мне путь! Я не хочу быть как все, открой для меня никому не ведомый мир…»
Улицы города лопались, как скрипичные струны, горожане взмывали в небо и шли над землёй.
Родственники, рассевшись, отдыхали на крышах.
Краски сгущались, превращались в вино, хлестали струями из картин.
Как хорошо мне здесь, как мне радостно с вами!
Но вы разве хоть что-нибудь слышали о Париже, о безухом художнике, и квадратах, кубах?
Прощай, Витебск!
И вы — оставайтесь вы тут с вашими бочками, с вашей селёдкой…
* * *
Для проживания в Петербурге нужно специальное разрешение. Я — еврей, а царь не позволяет нам выезжать за черту оседлости.
Отец достаёт у одного торговца временное удостоверение, и я отправляюсь в столицу — закупать какой-то товар…
* * *
Мне разрешается жить в Петербурге! Я — в прислуге адвоката Гольдберга. Адвокатам можно держать слуг-евреев.
* * *
На целую комнату у меня не было денег. Я снимал угол. И даже кровать в углу занимал не один, а делил ее с каким-то мастеровым. У него были большие черные усы, но все равно он был ангел. Спать он приваливался к стене, оставляя мне место с краю. Я отворачивался от него, ложился лицом к окну и дышал, дышал…
* * *
Как-то я снял полкомнаты на Пантелеймоновской. На другой половине, за занавеской, жил типограф с женой. По вечерам, после работы, он играл на аккордеоне в общественных парках. Однажды он явился домой поздно за полночь и, наевшись кислой капусты, стал приставать к жене. Та его не хотела, вырвалась и искала спасенья сперва на моей половине, а потом выбежала в коридор. Он гнался за ней и кричал: «Не имеешь права, я тебе законный супруг!» И я понял, что не одни евреи в России не имеют свободного вида на жительство…
* * *
Как только я стал говорить по-русски, я тут же принялся сочинять стихи. Это было легко, как дышать. В самом деле, какая разница — воздух ты выдыхаешь или слово? Я читал стихи приятелям, они мне свои. Но их поэзия просто бледнела перед моими стихами. Много позже я познакомился с Александром Блоком, поэтом редчайшим, с тонким вкусом, и мне захотелось показать стихи ему — он-то что скажет?
Но его глаза, его лицо… Я не решился. И забросил, а потом совсем потерял ту тетрадку с юношескими стихами.
* * *
В один из темных петербургских вечеров я вышел из дому. Улица была пуста. Рельефные камни булыжной. Вдалеке, ближе к центру, начинался погром. Распоясалась банда негодяев. Они слонялись по городу в шинелях с оборванными пуговицами и погонами и весело развлекались, сбрасывая людей с мостов в воду. Доносилась стрельба. Мне взбрело посмотреть на погром, и я пошел дальше по улице. Фонари не горели. Было очень страшно, когда я проходил мимо бойни. В окнах видны были еще не убитые животные. Это была их последняя в жизни ночь, и они испуганно мычали среди развешанных топоров и ножей. Из-за угла вынырнули четверо или пятеро вооруженных бандитов. Они меня сразу заметили и подошли: «Еврей?» Какое-то мгновение я им не отвечал. Вокруг тьма, защищаться нечем, руки-ноги как ватные, а они жаждут крови. Глупая, не имеющая никакого смысла смерть. А так хочется жить…
— Проваливай!
Я побежал…
Всякий очередной провал русской армии становился для великого князя Николая Николаевича поводом для новых гонений на евреев.
* * *
Солдаты дезертировали. Война, пули, вши — все это было позади, где-то в окопах. Вместе со всеми бежал с фронта и я. Война для нас кончилась, наступала свобода.
Февральская революция.
Восстание Волынского полка.
«Да здравствует Временное правительство!»
Зычный голос Родзянки: «Братья, помните, враг у ворот! Поклянемся…»
Я жил в каком-то обморочном состоянии.
Керенского я не слыхал. Он был на вершине славы. Наполеоновский взгляд. Руки, скрещённые на груди.
И спал на кровати самого императора!
* * *
В июне эсеры укрепили свои позиции. В цирке ораторствовал Чернов: «Учредительное собрание!»
На Знаменской, где стоял гигантский памятник Александру Третьему, разнёсся слух, что приехал Ленин.
— Кто-кто?
— А, тот самый, из Женевы?
— Неужели?
— Да взять бы его… Вся власть Учредительному собранию!
— Говорят, приехал в пломбированном вагоне, прямо из Германии.
В Михайловском театре — живописцы и актёры собрались, чтобы создать Министерство искусств. Я — зритель. И вдруг слышу: кто-то из молодёжи выдвигает меня…
* * *
Прощай, Петербург! Здравствуй, мой Витебск!
25 октября. Город заполонили мои раскрашенные коровы и. лошади, взметённые над улицами Революцией.
Идут рабочие, слышится «Интернационал». Они смеются, а мне кажется: вот! они меня понимают!
Коммунисты, функционеры — те более сдержанны.
Зелёная корова? Лошадь, летящая по небу? А как это вяжется с Марксом и Лениным?..
Маркса и Ленина они успели заказать ребятам, скульпторам — из цемента. Господи, да они же размокнут под этим дождливым небом… Бедный мой Витебск!
В городском парке устанавливают один из этих шедевров. Я это вижу из-за деревьев…
Где он сегодня, тот Маркс? Где та скамья, на которой мы целовались? Куда бы присесть, куда спрятать стыд…
Одного Маркса им мало. На другой улице устанавливают еще одного, примерно такого же. Нет, потолще, потяжелее. И какой-то злобный на вид — нагонял на извозчиков страх…
* * *
В косоворотке, с портфелем в руках, я — настоящий советский чиновник.
* * *
Пришлось отправиться за поддержкой к Максиму Горькому. Я теперь был начальник, руководитель Витебской Академии Искусств. Совещания затягивались до глубокой ночи. Я убеждал преподавателей и призывал их честно исполнить свой долг, а они в это время украдкой пытались поспать, усталые все, измученные…
* * *
Как-то уехал я по нашим делам, в очередной раз добывать хлеб, краски, деньги. Педагоги подняли против меня бунт, втянули учеников, Господь их прости.
К ним примкнули и те, кого я сам звал приехать сюда, и все вместе, получившие тут службу и заработок, они приняли решение, по которому я в 24 часа должен оставить мой пост. Позже, когда я уехал из города, они сразу притихли, больше не за что было бороться! Растаскав казённое имущество, поделив между собой все, что было в моей академии, включая картины, купленные мной на государственные средства, они разбрелись кто куда, плюнув и на школу, и на юных художников.
* * *
Москва. Митинги. Митинг поэтов, митинг художников, митинг актёров. Митинг, посвящённый международному положению, под председательством Анатолия Луначарского. На какой отправляться?
Красный шарф, императорский профиль, Наполеон в ссылке — надежда на революцию в театре, Мейерхольд. Недавний еще любимец публики Императорского театра, щёголь. Из всех этих я любил его одного. Как жаль, что не довелось с ним поработать.
* * *
Митинг поэтов. Громче других — кричит Маяковский. Друзьями мы не были, что не помешало ему подарить мне свою книжку с надписью: «Дай бог, чтоб каждый шагал, как Шагал!» Его крики и оплевыванье публики были мне глубоко противны. Неужто поэзии нужен весь этот гвалт?
Вот Есенин — с его трогательной улыбкой, с его зубами. Случалось, кричал и он — но хмель его был от бога, а не от вина! Слезы стояли у него на глазах, когда он бил кулаком себя в грудь, а не по столу, и когда он плевал — только не на других, а себе в лицо.
Он поприветствовал меня со сцены.
Поэзия его, может быть, и не столь совершенна, но разве после Блока в России — она не единственный крик одинокой души?
* * *
Митинг художников.
Вчерашние мои друзья и коллеги — управляющие всей живописью в России. Они смотрят на меня, в их глазах — жалость и недоверие. Но мне больше от них ничего не нужно — кто сегодня здесь не педагог, кроме, конечно, меня?
Один из руководителей «Бубнового валета». На площади, под башней Кремля, он указывает пальцем на высокий фонарь: «Вот так и вы будете висеть, все вы!»
Очень рьяный революционер.
* * *
Наркомпрос предложил мне работу педагога в колонии «III Интернационал»… Там жили несчастные дети, сироты. Всех их недавно подобрали на улицах — забитые, напуганные погромами, ослеплённые сверканьем ножей, которыми резали их родителей, оглушённые грохотом разбиваемых стёкол, свистом пуль, предсмертными воплями и мольбами их папы и мамы. У них на глазах выдирали бороду отцу, насиловали сестру, а потом вспарывали ей живот…
Вот они, эти дети.
Они вели хозяйство, готовили пищу, выпекали хлеб, пилили и рубили дрова, сами шили, стирали и штопали свою жалкую одежонку.
Подражая взрослым, они сидели на совещаниях, критиковали друг друга и своих педагогов, вставали и, счастливо улыбаясь, пели «Интернационал». Но глаза их не улыбались.
Я учил их живописи, я их любил. Они с такой жадностью набрасывались на краски — как зверь на мясо. Одетые кое-как и во что попало, многие босиком, они приветствовали меня, стараясь перекричать один другого: «Здрасьте, товарищ Шагал!» Помню мальчика, жил он в каком-то непрестанном бреду творчества: сочинял музыку, слагал стихи, рисовал. Помню другого, тот хладнокровно, как инженер, конструировал свои картины. Иные предпочитали абстракцию и сближались, сами того, конечно, не ведая, с живописью Чимабуэ, с мозаикой соборного витража…
Где вы сегодня, дорогие мои?
* * *
Я сидел в приёмной и ждал, когда начальник отдела соблаговолит принять меня. Я хотел получить то, что мне полагалось за росписи в Камерном театре. Пусть не по «высшей», не по «первой» категории, как это легко удавалось художникам половчее меня, пусть хоть по самым минимальным ставкам.
Начальник отдела криво усмехнулся: «Понимаете, нужны подписи, нужны печати… Вот если бы Луначарский… Зайдите завтра… Или на днях…»
Тянулось все это два года. Я схватил воспаление лёгких.
Грановский тоже усмехался…
Что было делать?
Слоняясь по Москве, я, случалось, проходил и мимо Кремля. Скосив глаза, я заглядывал внутрь: вот выходит из машины Троцкий, длинноногий, с багровым носом. Не спеша, основательным шагом он идёт домой: жил он в кремлёвской квартире. Вдруг меня осеняет: в Кремле ведь живёт Демьян Бедный, поэт, с которым мы вместе служили в армии, а потом заседали в одном военном совете. Что, если пойти к нему? Вот бы он, да еще Луначарский, походатайствовали за меня: пусть мне разрешат уехать, вернуться в Париж. Я хочу заниматься живописью, хватит, побыл я директором, побыл педагогом… Там остались мои картины — где-то в Берлине. Там, в Париже, осталась моя мастерская, мои незаконченные работы, этюды, эскизы…
* * *
Ни царской России, ни России советской я оказался не нужным. Я им здесь непонятен. Я им — чужой.
Вот Рембрандт, я уверен, меня любит.
* * *
Может быть, и Европа полюбит меня, а потом уже и она — моя Россия…
1922
Примечания
1. В этот вечер верующие евреи ждут к праздничному столу пророка Илию, который должен привести на землю Мессию.