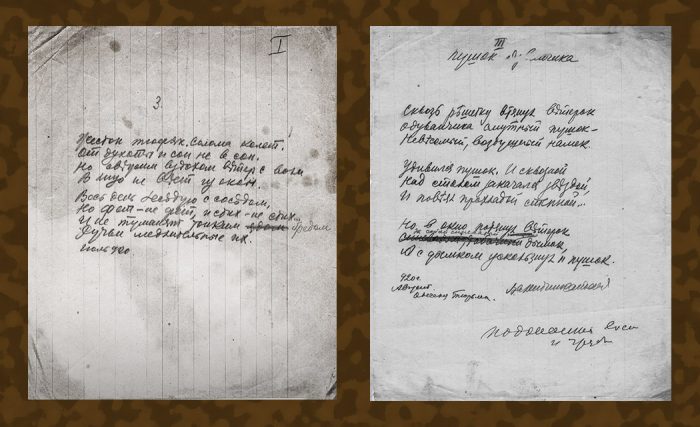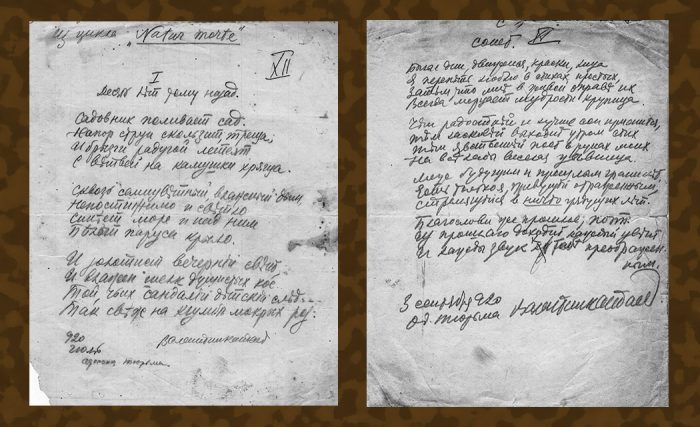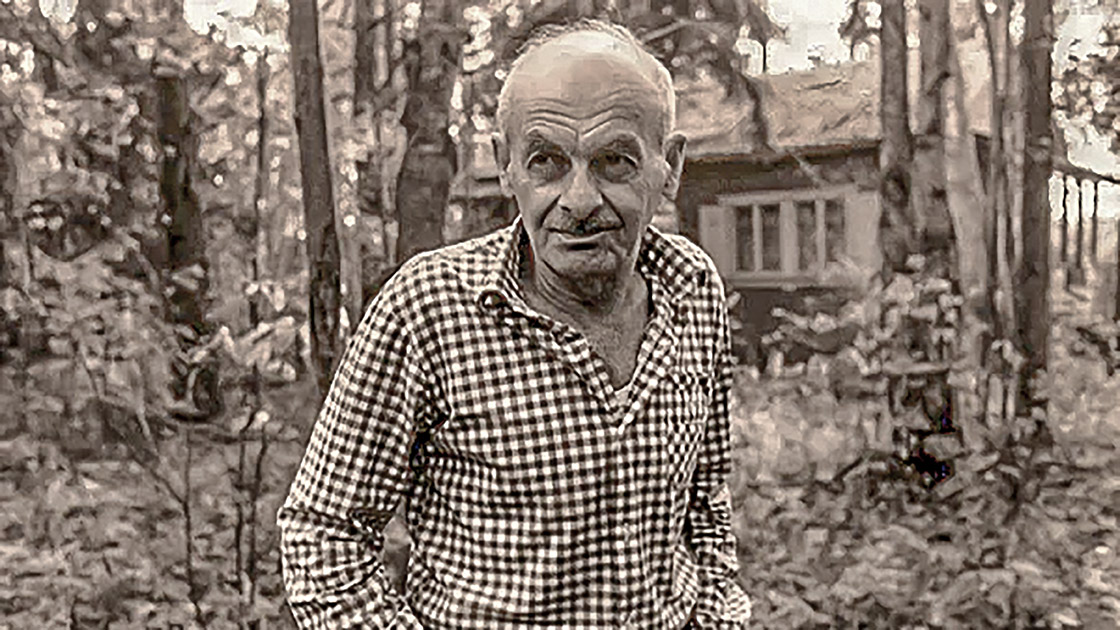«За решеткой в темнице угрюмой —
ни любви, ни весны, ни зари»
Часть 1
Почти сто лет назад, 30 октября 1920 из здания ЧК на Маразлиевской улице вышли молодой человек, в прошлом офицер, и подросток-гимназист — братья Катаевы .
Старший брат будет бравировать историей ареста, фактом отсидки — и в двадцатые и в восьмидесятые годы. Младший об этом не будет ни вспоминать, ни упоминать — но в его биографии на долгие годы изменится дата рождения — с 1902 на 1903 (во время допросов он убавил год, надеясь избежать расстрела).
В 1959 была опубликована повесть Константина Паустовского «Время больших ожиданий». Валентин Катаев, в те годы живой и здравствующий, там лишь упоминался. Но как!
Вечер поэтов, на котором собирались бить Георгия Шенгели. Два имени рядом — Владимир Нарбут и Валентин Катаев.
«Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут — сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.
Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом. <…>
Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.
На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.
Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться. <…>
После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочёл свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в солёную. Стихи понравились, но не вызвали оваций» .
Вроде бы обычное описание вечера. Но надо знать подоплёку — Владимир Нарбут руководит ЮгРОСТа, Валентин Катаев — его подчинённый. Нарбут — автор стихотворения о ЧК «И чеканит ЧК гильотину…» Катаев — недавний арестант ЧК, чудом этой гильотины избежавший.
И самое главное — сохранилась рукопись стихотворения «Перед штормом» (позже названная «Слепые рыбы»). Катаев написал его 2 августа 1920.
Всю неделю румянцем багряным
Пламенели холодные зори
И дышало студёным туманом
Заштилевшее Черное море.
Каждым утром по узкой дороге
Мы сбегали к воде, замирая,
И ломила разутые ноги
По колено вода ледяная.
По морщинистой шёлковой мели
Мы ходили, качаясь от зыби.
И в стеклянную воду глядели,
Где метались ослепшие рыбы.
Из широкой реки, из Дуная
Шторм загнал их в солёное море,
И ослепли они, и, блуждая,
Погибали в холодном просторе.
Били их рыбаки острогою,
Их мальчишки ловили руками.
И на глянцевых складках прибоя
Рыбья кровь распускалась цветами .
Стихотворение не раз публиковали. Но никогда — с датой «20 августа. Одесса. Тюрьма». В семейном архиве сохранились рукописи стихов, написанных в тюрьме.
Павел Валентинович Катаев вспоминал рассказы отца о тех днях:
«Заключённые сидели там без предъявления какого-либо обвинения, а исходя из классового представления тюремщиков-революционеров о виновности того или иного представителя враждебного класса.
Кем был в то время мой отец? Сын преподавателя епархиального училища, получивший чин дворянина (по наследству не передающийся), бывший гимназист и вольноопределяющийся царской армии, участник войны с Германией, дослужившийся по прапорщика и награждённый тремя боевыми наградами, молодой одесский поэт…
<…> Пока же в ожидании решения своей участи отец оставался в тюрьме, где, что называется, прижился, попривык и даже продолжал писать стихи. Его перестали вызывать на допросы. По его словам, у него создалось впечатление, будто бы о нем забыли, не обращали на него внимания. И такое положение его устраивало — он оставался в живых» .
1926 год. Советские писатели пишут автобиографии. В. Катаев откровенно признаётся: «Гражданская война 1918–1920 гг. на Украине замотала меня в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку. В общей сложности за это время в тюрьме я просидел не менее 8 месяцев» . И если его арест контрразведкой достаточно сомнителен, и в дальнейшем в прозе никак не отражён , то о чрезвычайке Катаев будет писать всю жизнь; от стихов в 1920 году до последних дней.
В 1922 году он начинает работу над рассказом «Отец». Внук священника Василия Катаева, сын преподавателя епархиального училища Петра Катаева, он даёт главному герою говорящую фамилию — Синайский. Такая же фамилия у героев его последней повести «Сухой лиман» (1984).
В рассказе «Отец» названо и время ареста, и число месяцев, проведённых за решёткой: «В начале апреля, в один из тех прекрасных и тёплых дней, когда море особенно сине, а молодые листья особенно зелены, в тюрьму привели громадную партию арестованных. <…>. Среди приведённых в тюрьму людей был некто Пётр Иванович Синайский, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами и в студенческой фуражке.
И пошла тюремная жизнь» .
«Каждое воскресенье и каждую среду, в солнце и в дождь, по шоссе мимо кладбищенской стены тащился по щиколотку в пыли или грязи старик Синайский. За шесть месяцев он не пропустил ни разу. Сын ждал его с раннего утра, высоко держась за переплёт решётки» .
О младшем брате в рассказе не упоминается. А в «Сухом лимане» (1986) говорится об обоих сыновьях, но на арест автор лишь намекает. Впрочем, читавшим «Уже написан Вертер» все было понятно: «В то время обоих сыновей Николая Никаноровича — старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию, — смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома» .
Рассказ «Отец» Катаев начал писать в 1922 году, и в том же году был опубликован его рассказ «Восемьдесят пять». Главный герой — чекист, в прошлом — агент охранки, пробравшемся в ЧК по поддельным документам и арестованный. Похоже, автор вспомнил свои ощущения в момент ареста:
«Он знал, что это могло быть доносом, ошибкой, наконец… шуткой. Но это должно было распутаться. Немедленно, сию минуту… сию секунду… Дальше это продолжаться не могло… Но это продолжалось, и время, оставаясь неподвижным, неслось, свистя и захлёбываясь. И ужасней всего и унизительней было неведение, то неведение, которое знает все, но не желает знать, а потому не знает, все помнит до самых тайных глубин, но глушит память и мчится, захлёбываясь, во тьме.
<…> Он уже видел себя введённым в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля. Отяжелевшая кровь налила дубовые ноги, и лёгкая громадная пустота звенела и реяла вверху. Его вывели из подвала во двор, в ночь, где ноги бессильно скользили по черной земле, напитанной нефтью» .
Рассказ был опубликован с примечанием «Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией» — автор об этом знал, так сказать, изнутри.
1980 год. Журнал «Новый мир» в № 6 публикует повесть В. Катаева «Уже написан Вертер» — совершенно невероятное по тем временам описание расстрелов в ЧК. О том, как именно повесть увидела свет, существует несколько версий. По словам Павла Валентиновича Катаева, повесть рискнул опубликовать смертельно больной Сергей Наровчатов, который уже ничего не боялся . По версии автора книги о Валентине Катаеве Сергея Шаргунова — повесть напечатали по указанию Михаила Суслова, «серого кардинала» и главного идеолога партии .
Тем не менее, председатель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК секретную записку, о том, что Комитет госбезопасности оценивает повесть Катаева как политически вредное произведение: «В целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК.
<…>Написанная с субъективистской, односторонней позиции повесть в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции» .
При жизни Валентина Петровича — Героя социалистического труда, награждённого тремя орденами Ленина, лауреата Ленинской премии –повесть больше не переиздавалась. Не вошла она и в десятитомное собрание сочинений, вышедшее в 1983 году. А несколько стихотворений, написанных в тюрьме — вошли, ведь место их создания указано не было.
В этих стихах, написанных за решёткой — и реалии тюремной жизни, и светлое воспоминание о прошлом.
Июль 1920:
Жесток тюфяк. Солома колет.
От духоты и сон не в сон.
Но свежим духом ветер с воли
Совсем не веет из окон.
Всю ночь беседую с соседом.
Но Фет не Фет и стих не стих.
И не туманят тонким бредом
Ручьи медлительные их.
Если первое стихотворение — зарисовка с натуры, то во втором, тоже написанном в июле — упоминание о детстве, о счастливом периоде влюблённости во всех барышень Отрады. Катаев назовёт его «Десять лет спустя»:
Садовник поливает сад.
Напор струи свистит, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща.
Сквозь семицветный влажный дым
Непостижимо и светло
Синеет море, и над ним
Белеет паруса крыло.
И золотист вечерний свет,
И влажен жгут тяжёлых кос
Той, чьих сандалий детский след
Так свеж на клумбе мокрых роз.
«Подоконник высокий и грубый…» — вид из тюремного окна Катаев почти дословно повторит в рассказе «Отец».
Подоконник высокий и грубый,
Мой последний земной аналой.
За решёткой фабричные трубы,
И за городом блеск голубой.
Тот же тополь сухой и корявый
За решёткой в железной резьбе.
Те же пыльные, тусклые травы,
Тот же мёртвый фонарь на столбе.
Не мечтай! Не надейся! Не думай!
От безделья ходи и кури.
За решёткой в темнице угрюмой —
Ни любви, ни весны, ни зари.
В рассказе: «В тюремной ночной духоте и тьме, в спиртовом запахе дынных корок, по стенам возились клопы. Два окна, переплетённые грубым железом, запирали ночь, всю осыпанную свежими звёздами. Ветер и сполохи бежали по ним.
<…>В окне, озарённый дуговым жуком, стоял добела розовый косяк соседнего корпуса. Под виселицей фонаря, среди черноты, на полотняной яркой земле качалась многоугольная тень часового» .
Рассказ «Отец» и стихи, написанные в тюрьме, перекликаются. «Спиртовый запах дынных корок…», «…вечер, зажжённый огарком в горлышке черной бутылки, оплывал лазурью и золотом стеарина на вялые корки, на жёлтый понос дынных внутренностей, распластанных на столе» и стихотворение «Дыня»:
На узкие доли
Персидскую дыню разрезав,
Блестит поневоле
Слезами восторга железо.
<…>
Постой и покуда
Душистые доли не трогай,
У полного блюда
Помедли с молитвою строгой.
Настанет же время
Попробовать дивную дыню,
И высушить семя,
И выбросить кожицу свиньям.
Августом 1920 датировано стихотворение «Пушок одуванчика:
Сквозь решётку втянул сквознячок
Одуванчика смутный пушок,
Невесомый, воздушный намёк.
Удивился пушок и сквозной
Над столом закачался звездой,
И повеял прохладой степной.
Но в окно потянул ветерок
За собой синеватый дымок,
А с дымком улетел и пушок.
Так в рукописи. Позднее Катаев изменит всего два слова: «За решётку табачный дымок».
«От безделья ходи и кури…», «табачный дымок», «папироса мой друг постоянный» — в трех стихотворениях Катаев пишет о единственной отраде арестанта:
Если ночь и душна и светла,
Дышит грустью и праздностью странной,
Ароматна, крахмальна, бела,
Папироса мой друг постоянный.
Все я медлю курить: и пока
С папиросою пламя не слито,
В золотом волокне табака
Невозможность возможного скрыта.
Но едва огневой мотылёк
Пропорхнёт по обрезу тупому —
Там малиновый вспыхнет глазок
И запахнет табак по иному.
И теперь от иного огня
Острым дымом до сердца дотянет.
И опять, как и вечно, меня
Недоступностью воли обманет .
Стихи «на грани смерти» — молодой поэт ежедневно, ежеминутно ожидает расстрела. В рассказе «Отец» герой «засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый» .
«Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими, высушились, упростились до наива: он заговаривал себя ими как человек, пробующий договориться с неволей и небытием» , — писал С. Шаргунов.
Раз я во всем и все во мне,
Что для меня кресты решёток —
В моем единственном окне —
Раз я во всем и все во мне.
И нет предела глубине,
А голос сердца прост и кроток:
Что для меня кресты решёток,
Раз я во всем и все во мне .
Эпиграф к этому стихотворению «Я во всем и все во мне. Толстой “Война и мир”». Сознательная ошибка или редкий случай, когда Катаева подвела память? Это строки из написанного в 1836 году стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые сместились…»:
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..
И еще одно тюремное стихотворение «Всему, что есть — нет имени и меры…», явно созвучное последним строкам тютчевских стихов.
У Тютчева:
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
У Катаева:
Всему что есть — нет имени и меры.
Я вне себя не мыслю мир никак.
Чем от огня отличен полный мрак?
Чем разнится неверие от веры?
Кто говорит, что грани звёздной сферы
Есть вечности и бога верный знак?
Пока мой глаз их отражает — так!
Но мёртв зрачок — их нет, они химеры.
Мир — это я. Случайной мерой чувства,
Миражами науки и искусства
Я мерю все глубины бытия.
А нет меня?.. О, сердце, будь холодным,
Будь до конца спокойным и свободным.
Так говорю на грани смерти я.
Но рядом с мрачными строками вновь воспоминание о свободе, море, разгуле стихии.
2 сентября он пишет стихотворение «Шторм»:
Громовым раскатом смеха,
Гулом пушечного эха
Стонет море по обрывам
Однотонным переливом.
В мутной зелени вскипая,
Льётся кипень снеговая
И рисует в буйной влаге
Айвазовские зигзаги.
Берег пуст. Купальни смыты.
Только там, где сваи вбиты,
Тянут волны вместе с тиной
Тело мёртвого дельфина .
Молодому поэту подвластна любая форма — он писал и триолеты, и сонеты. В июне 1918 года журнал «Жизнь публикует» один из его сонетов:
Точи свой стих, как дедовский кинжал,
От времени зазубренный и ржавый,
И освяти своею новой славой
Его холодный, голубой закал.
На рукоятке — дымчатый опал,
Очерченный серебряной оправой
Неясный образ, вкованный в металл
Стиха, застывшего тяжёлой лавой.
Но для любви забудь стальной сонет,
Любовь полна неверности свирельной,
В любви хорош трёхгранный триолет
И нежный лепет песни колыбельной.
Люби светло. Будь бесконечно прост,
Как шелест трав, как дрожь весенних звёзд.
И так совпало, что одним из последних написанных Катаевым в тюрьме стихотворений стал сонет, во многом пророческий.
Былые дни, движенья, краски, лица…
Я перепеть люблю в стихах простых
Затем, что мне в живой оправе их
Всегда мерцает мудрости крупица.
Чем радостней и лучше сон приснится,
Тем ласковей выходит утром стих
Тем явственней поёт в руках моих
На все лады весёлая цевница.
Меж будущим и прошлым грани нет,
Есть только я, живущий отражённым,
Стремящимся в ничто грядущих лет.
Благослови же прошлое, поэт.
Из прошлого доходит каждый цвет
И каждый звук к тебе преображённым.
Эти строки Валентин Катаев написал 3 сентября 1920 года. Именно о прошлом, преображённом в строки, написанные размашистым почерком (Катаев печатных машинок не признавал) — повесть «Уже написан Вертер». Свои тюремные стихи Катаев не цитирует — ведь главный герой — художник Дима (его прототипом был Виктор Фёдоров, сын писателя Александра Митрофановича Фёдорова).
82 номер альманаха «Дерибасовская-Ришельевская». Cтатья Алёны Яворской о тюремных стихах Валентина Катаева. Ровно сто лет назад он сидел в одесской тюрьме. Рукописи и фотография из архива Тина Катаева (Tina Kataeva)