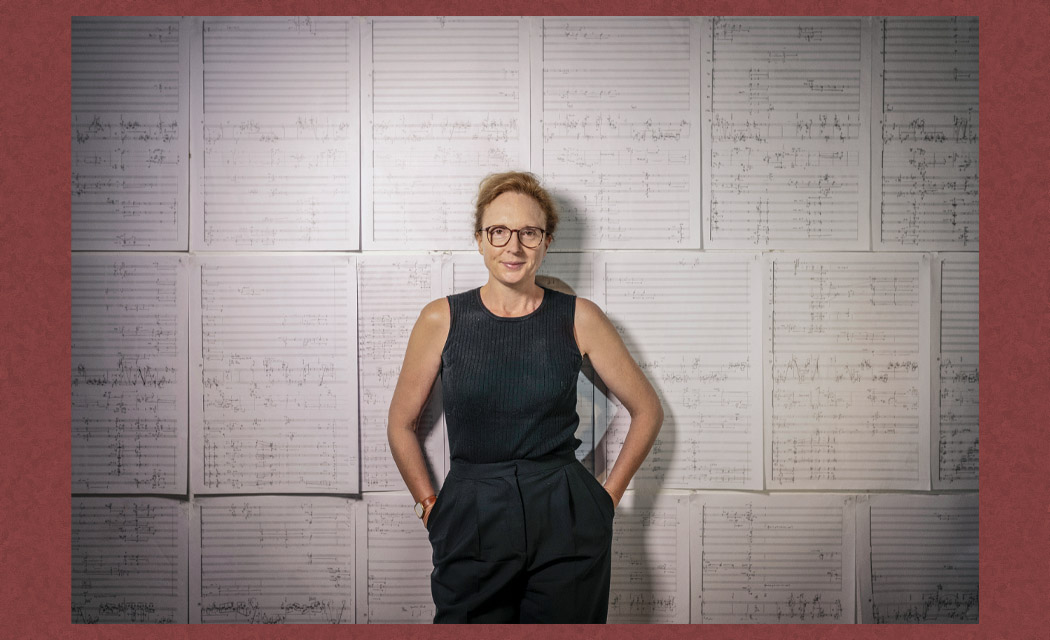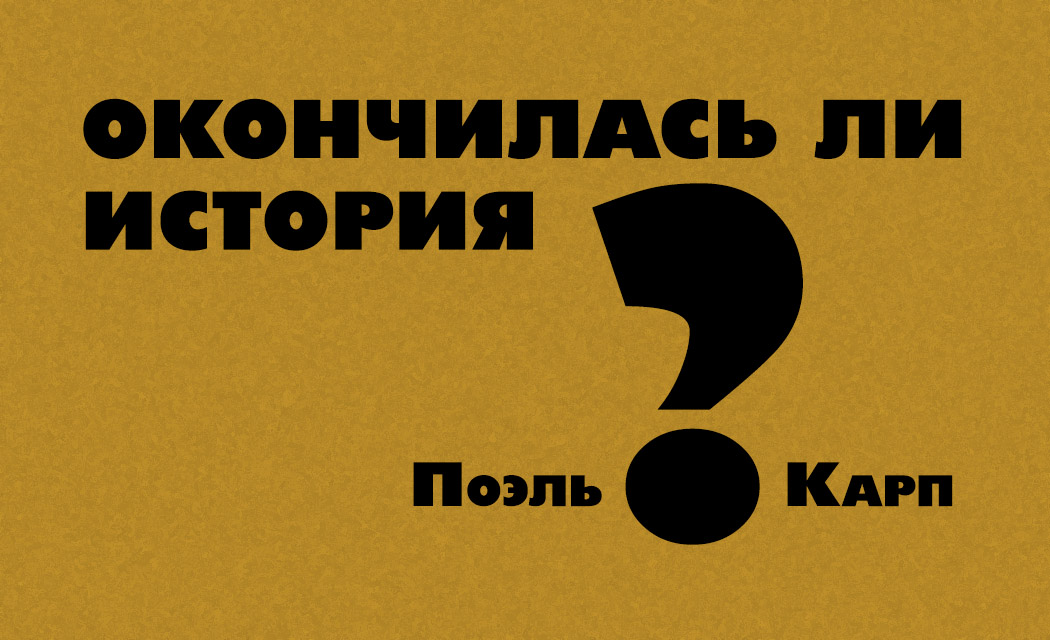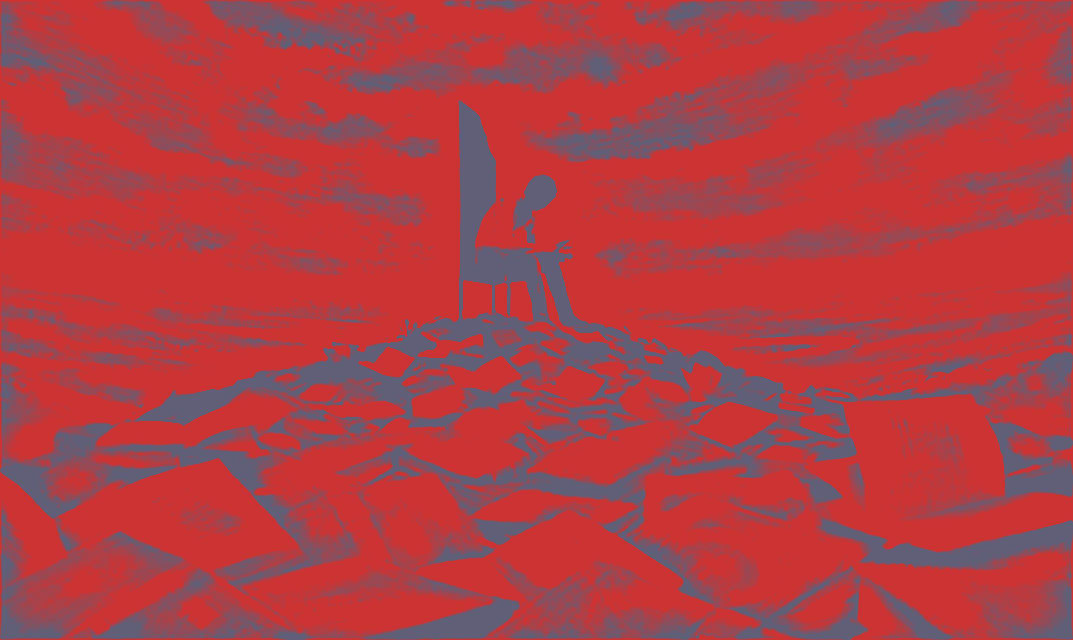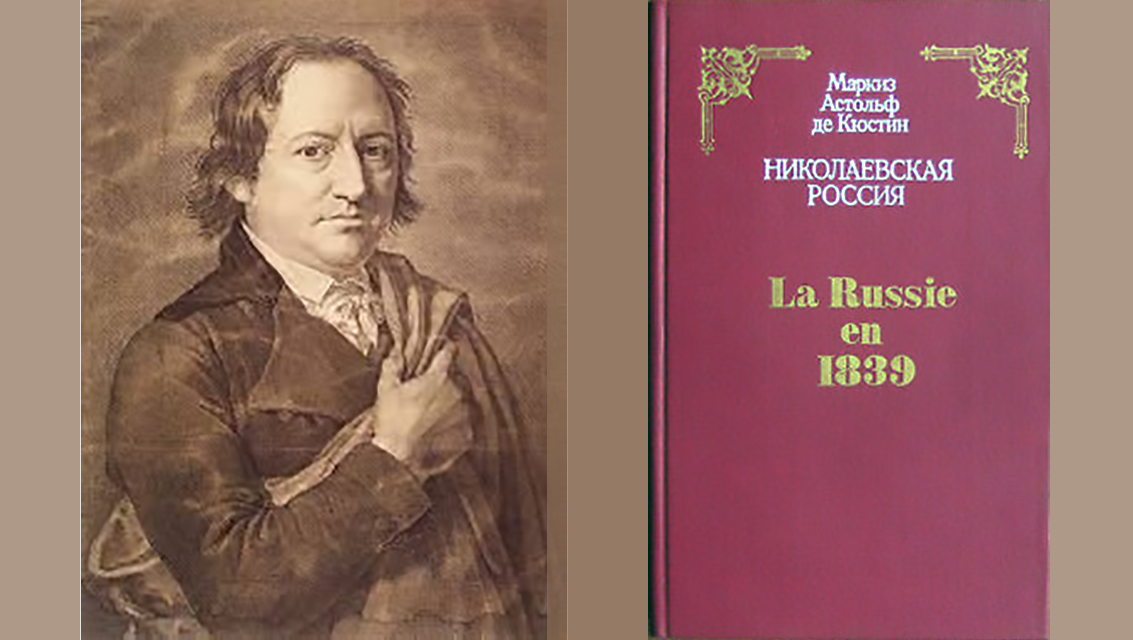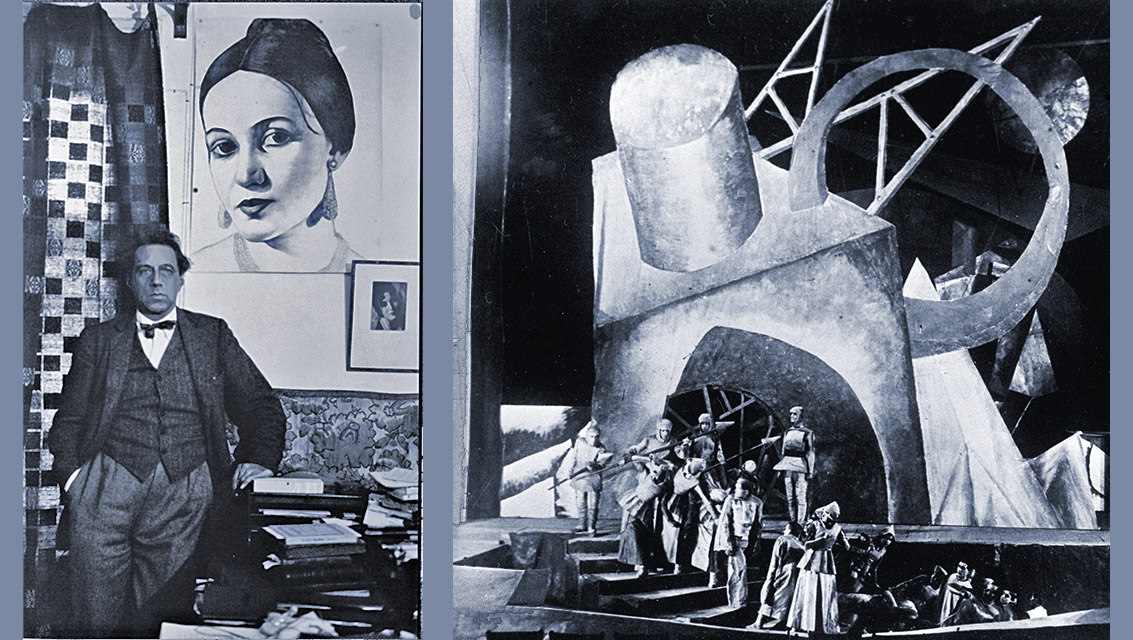«Конец истории и последний человек» - это одно из самых известных произведений философа и футуролога Фрэнсиса Фукуямы, ставшее международным бестселлером и переведенное на несколько десятков языков.
Капиталистическая либеральная демократия, убеждает Фукуяма в своей работе, есть конец истории в привычном нам ее направлении. Современные технологии все более способствуют гомогенизации различных культур, достижения индивидуальные превалируют над коллективными.
Результатом становится своеобразная «капиталистическая утопия» - идеальное общество потребления, прекратившее историческое развитие, замкнувшееся внутри себя и, следовательно, поглощенное лишь внутренними проблемами.
Какой же станет философия «последних людей»?
И не станет ли материальная утопия духовной антиутопией?
Почти два года назад американец Фрэнсис Фукияма объявил, что история человечества подошла к концу. Нет, он не вселенского Чернобыля ожидал, а, напротив, благоприятных событий. Решив, что либеральному западному обществу нет альтернативы, доказательством чему он счёл крушение марксизма-ленинизма, Фукияма настаивал, что хоть не все еще перешли к либеральной демократии, но, поскольку стало очевидно, что всякий иной, путь неразумен, история как арена идеологического противостояния завершилась – и начинается просто жизнь.
О подобном конце истории не Фукияма первым заговорил. Это ведь Марксу в середине прошлого века показалось, что с концом капитализма придёт конец истории, поскольку при коммунизме люди смогут видеть вещи как они есть, не оглядываясь на идеологические стандарты, и уже поэтому смогут жить разумно. Скажи кто Марксу, что его собственная теория составит канву для идеологии нового общества, что там вообще будет идеология, он сильно бы подивился. Да конец истории предрекал еще и Гегель.
И про Маркса, и про Гегеля Фукияма помнит и сам их поминает. Но коммунизм для него – лишь альтернатива либерализму, а суть ведь не в том, какой именно порядок станет окончательным, а в том, возможен ли вообще окончательный порядок. У Маркса, пожалуй, было больше оснований уверять в окончательности, связанной с освобождением человечества от идеологических пелен. Как проповедник материалистического понимания истории, он немало сделал для демистификации людских представлений. Казалось, когда общество и впрямь будет откровенно в своих материальных делах, станет называть кошку кошкой, для идеологии места не останется. Ан вышло наоборот, и приходится радоваться, когда кошку дозволено называть не крокодилом, а хотя бы собакой, – все-таки тоже домашнее животное.
Прежде чем класть в основу своих пророчеств крушение коммунизма, прежде чем именовать крушением нынешний кризис в СССР, открывший возможность высвобождения восточноевропейских стран, Фукияме стоило призадуматься, почему не сбылись надежды на деидеологизацию, поманившие Маркса. Сам Фукияма исходит из противоположного – отрицает материальные предпосылки идейной жизни и зовёт вернуться к Гегелю. повторяя, что «согласно Гегелю противоречия, движущие человеческой историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, то есть на уровне идей». Но этому противоречит тут же приводимое в качестве примера провозглашение Гегелем конца истории в 1806 году: «Уже тогда в разгроме Наполеоном прусской монархии в битве при Иене Гегель усмотрел победу идеалов Французской революции и неизбежное повсеместное распространение государственности, воплощающей собой принципы свободы и равенства». Сбудутся ли предположения Фукиямы, еще можно гадать, но предположения Гегеля явно не сбылись. Ни Бисмарка, ни тем более Гитлера не сочтёшь воплощением свободы и равенства, если, конечно, сообразовываться с объективной реальностью, что и составляет главное преимущество либерального общества.
Беда подобных пророчеств – и у Гегеля, и у Маркса и у Фукиямы в их избирательной одномерности
Ход истории сведён в них к единому, хоть у каждого своему, стимулу, к единой первопричине, к некоему богу, лишённому религиозных атрибутов, а вместе с ними и оправдания, поскольку в любой религии бог в качестве неопровержимого для верующих аргумента творит чудеса, а наука остаётся наукой лишь в пределах естества, в пределах объективной реальности, и постижения этого естества и этой реальности в меру доступной достоверности.
Но в том-то и дело, что характер постижения лишь относительно адекватен постигаемому, и соотношение наших представлений и объективной реальности в ее развитии меняет меру своей адекватности и тем затрудняет понимание вещей. Гегель в гносеологические проблемы не слишком входил, практически отождествляя субъекта с объектом, а теорию познания с онтологией. Для Гегеля, да и для Маркса, выработка общественных знаний – это процесс общественного самопознания и участия человека в общественном самопознании, его приобщенность к бытующим формам общественного сознания, – важнейшее проявление его причастности к обществу. В этом, конечно, большая доля правды. Общество долго живёт установившейся системой представлений, где светской, где религиозной, и не только не тяготится ею, но держит ее за достоверную, а попытки независимого, стороннего анализа принимает за ересь. Но и в кризисные эпохи в идеологических системах нарастают трудности с объяснениями новых поворотов событий, что и побуждает осознавать привычное восприятие как идеологизированное, мифологическое, и творить новые мифы, новые идеологии, или воскрешать былые.
Неизбежность подобных ломок предопределена самим гегелевским отношением к познанию, но Фукияма, всецело доверясь Гегелю, не хочет различать корни идеологизированности которая не выдумка и не порок, а естественный плод недостаточного гносеологического самоконтроля и сведения происходящего в сознании либо к его духовному источнику, либо – как в марксизме – к отражению текущего бытия. Есть тут и нежелание вдаваться в происходящее в сознании за порогом доступного ему познания, а там-то и деформируются и абсолютизируются наши относительные знания.
Лишь потом выясняется, что одно – сами по себе идеи Маркса, по ходу его жизни обновлявшиеся, нередко противореча сами себе, другое – сложившееся на их основе марксистское мировоззрение, повлиявшее на социалистическое движение, и совсем уже третье – марксистско-ленинская идеология, возникшая в советском государстве. Ощутимые перемены при переходе от первого ко второму и, в особенности, от второго к третьему, давно известны. Идеи Маркса не были изначально утопией, обманом, прельстившим человечество, как часто уверяют сегодня, но, как многие крупные идейные явления, были воплощением частичной правды, – иначе не понять, как сумели они привлечь не кучку, а десятки миллионов последователей.
История велит признать, что экономическая теория Маркса подметила и впрямь существеннейшее для целого столетия противоречие буржуазного мира. Серьёзные упущения этой теории, роковым образом проявившиеся потом, различали уже современники, однако в XIX веке это имело в основном теоретическое значение: роль физического труда в промышленном производстве была решающей, и, соответственно, всеобъемлющей казалась роль рабочего класса, под знаменем Маркса не столько, впрочем, мечтавшего о светлом царстве коммунизма, сколько отстаивавшего свои конкретные права. Аналогичную борьбу рабочий класс вёл и на базе других теорий и без всяких теорий, объединяясь в профессиональные союзы. Все это, вопреки распространённому мнению, не разрушало либеральное общество, а, напротив, укрепляло его либеральность, как раз и позволившую прийти в развитых странах к довольно успешным методам экономического самосознания и саморегулирования.
Экономическая теория Маркса радикально разошлась с реальностью лишь в ходе научно-технической революции, которую не могла принять, поскольку та на практике показала, что плоды умственного труда – не бесплатный дар божий, как получалось по Марксу, и умственный труд тоже создаёт стоимость, а стало быть, рабочий класс хоть и безусловно важный, но отнюдь не единственный вершитель судеб современного производства и общества. Более того, оказалось, что и собственные его интересы несовместимы с мессианским назначением, которое отвёл ему Маркс, и без эффективного сотрудничества рабочего класса с другими участниками производства оно отбрасывается к прежним грубым формам, а сам рабочий класс к обнищанию, предсказанному Марксом, но преодолённому развитием, которого Маркс не предвидел, поскольку пренебрегал значением умственного труда. Можно бы добавить, что аграрное производство в западных странах еще раньше и резче разошлось с идеями Маркса, изначально не содержавшими в себе столь большой доли объективности, как его представления о промышленном производстве.
Вроде бы теория Маркса уже в середине нашего века потерпела наглядное поражение, а либеральное общество не только выжило, но и заново расцвело. Не стоит, однако, упускать из вида, что оно при этом усвоило едва ли не важнейшую из идей Маркса, признало, что развивающееся производство не может довольствоваться одним лишь либерализмом, одной лишь экономической (и соответственно политической) свободой, и – вот она, ирония истории! – отчасти осуществило на практике важнейший призыв Коммунистического манифеста: свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Сила современного западного общества не в последнюю очередь заключена в предоставлении человеку не только свобод, как требует классический либерализм, но и некоторых материальных гарантий. Политические соображения мешают либеральному обществу признать, сколь глубоко проросло оно социалистическими идеями. Современная Германия, широко практикующая социальную защиту своих граждан, именует себя не социалистическим, но социальным государством. И это верно в том смысле, что осуществление важнейшего из принципов Маркса, как продемонстрировала его родина, отнюдь не требует новой общественной формации, но возможно в рамках буржуазного общества, не довольствующегося, однако, одним либерализмом.
Подобные перемены внутри либерального общества тоже составляют исторический процесс, и сама социализация этого общества временами подрывает его либеральность. В то время как в Германии социалистические идеи трансформировались под влиянием либеральных, способствуя развитию национального хозяйства и на его базе социальной защите, в Англии они проявились более архаически, предприятия и целые отрасли промышленности, отчасти по нашему примеру, хоть и несколько иначе, огосударствлялись, что, в конечном счёте, ослабляло хозяйство, снижало уровень жизни людей и порождало сочувствие к контрнаступлению либерализма, хоть и сокращавшего социальную защиту, но поднимавшего уровень жизни большинства. Наивно считать такую яркую носительницу либеральных идей, как Маргарет Тэтчер, фигурой внеисторической! А ведь она сражалась против практики государственного социализма не в восточноевропейской стране с марксистско-ленинской идеологией, а в цитадели классического либерализма, в Британии, и уже одно это побуждает усомниться в предсказаниях Фукиямы, будто повсеместное торжество либерального общества покончит с историей на вечные времена и освободит экономическое развитие от социальных и политических преломлений.
Да и предполагать повсеместное торжество либерализма серьёзных оснований покамест нет. Отнюдь не идеализируя либеральное общество, я тоже думаю, что оно предпочтительнее других и для современного производства, и ради благополучия большинства людей. Но наивно думать, что дело лишь за тем, чтобы людям это понять. На примере развития марксистской мысли в России видно, что не столько восприятие общественных идей зависит от их понимания, сколько, напротив, само их понимание зависит от восприятия, диктуемого обстоятельствами.
Марксистское мировоззрение, пропагандировавшееся в России Н. Зибером, Г Лопатиным, Н. Даниельсоном, а затем П. Струве, М. Туган-Барановским, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, даже в социал-демократической трактовке Г. Плеханова, П. Аксельрода, В. Ленина, Ю. Мартова и их младших современников, при всех различиях, долго не теряло единства с западными единомышленниками. Конечно, в России, не пережившей еще и буржуазной революции, многие проблемы стояли острей, и большевики, вступая в противоречие с основоположниками, клонились к упреждающему захвату власти, не дожидаясь необходимой по Марксу для революции экономической зрелости, но и они в согласии с Марксом представляли себе революцию происходящей во всей Европе и даже во всем мире одновременно. Ни о каком национальном социализме, ни-о каком построении социализма в одной отдельно взятой стране до Октября 1917 года большевики и не заговаривали. Единственным существенным прибавлением к традиционному марксизму, какое выдвинул Ленин, было его учение о партии, призванной, как бы вместо пролетариата, составляющего в отсталой стране явное меньшинство, осуществить революционный переворот, чтобы присоединиться к более развитым странам.
Отдалённость такой цели и зависимость ее от происходящего в других странах уже тогда, конечно, придавала большевизму известную утопичность, однако на практике и большевики до поры стремились прежде всего к общедемократическим переменам и даже буржуазному преобразованию самодержавного государства – не зря они получали солидные субсидии от крупных капиталистов вроде Саввы Морозова. Да и вообще преобладала в русском революционном движении крестьянская партия эсеров, что подтвердили поздней и выборы в Учредительное собрание. Своеобразие русского марксизма, названного ленинизмом, по существу, проявилось, когда силы, победившие в феврале 1917 года, не сумели совершить важнейшие буржуазные преобразования, разрешить аграрный и национальный вопросы, что и привело к Октябрьской буржуазной революции, в ходе которой большевики захватили власть в надежде на скорую социалистическую революцию в Европе.
Не только большевики, да и не только в России, предавались подобным иллюзиям, но буржуазное общество сумело переступить через свои противоречия и остановить революцию даже в Германии, на которую большевики надеялись больше всего. Между тем, провозгласив «Декрет о земле» и «Декларацию прав народов России», большевики, не довольствуясь славой русских якобинцев, чтобы продержаться до европейской социалистической революции, разогнали Учредительное собрание и остановили буржуазное развитие, которому они-то как раз и расчистили дорогу. Этот национальный социалистический выбор, обернувшийся эпохой военного коммунизма, разорил страну гражданской войной и повернул против большевиков пошедшее сперва за ними крестьянство.
Трудно сказать, сознавал ли Ленин уже тогда тщетность надежд на революцию в Европе, но он понял, что она, во всяком случае, не близка, и предпринял отступление к капитализму, которое ему еще казалось временным. Лишь после его смерти до конца обозначилась жёсткая альтернатива: продолжать ли это отступление, способное привести к какому-то типу либерального правового общества со стоимостными отношениями, либо, как это и случилось, повернуть к обществу неофеодального типа. Поскольку капитализм, вопреки распространённому мнению, в старой России далеко еще не возобладал, то и реставрация означала возвращение не к капитализму, а к обновлённому феодализму, к новому самодержавию.
Тут-то, в соответствии с природой феодального общества, и возникла нужда в новой идеологии. Идеи Маркса в ней причудливо сплелись с крайними взглядами русского революционного народничества, одновременно вбирая в себя нормативы военного коммунизма, государственной хозяйственной монополии, нового закрепощения крестьянства и внеэкономических отношений. Новая идеология, названная марксистско-ленинской, объявила сложившееся в тридцатые годы государство социалистическим, хотя для Маркса и даже для Ленина социализм был противоположностью государства, а теперь оно провозглашалось высшим его воплощением.
Конечно, нынешний кризис – кризис не только внеэкономического хозяйствования, но и сопутствовавшей ему идеологии, мешающей ныне адекватному пониманию накопившихся трудностей хозяйства и социальных противоречий. Но, чтобы объявить этот кризис концом коммунизма, надо бы показать, что внеэкономическое хозяйство настолько себя исчерпало, что ни при каких обстоятельствах уже не в состоянии будет состязаться с либеральным даже по одним только жизненно важным, и в частности военным, показателям. И надо бы еще показать, что такое хозяйство не может существовать под знаменем другой идеологии. Ни того, ни другого Фукияма не сделал. Тем временем Саддам Хусейн продемонстрировал возможность создать под флагом исламского социализма в небольшой стране четвертую армию мира.
Фукияма говорит, что люди «способны сносить самые крайние материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, – будь то священные коровы или природа святой Троицы», – и это, конечно, правда. Но из преданности идеям никак еще не следует, что объективное содержание этих идей в конкретной жизни исчерпывается самосознанием их приверженцев, что за священными коровами или спором о единосущности или подобосущности Христа своему отцу нет человеческого и общественного содержания. Из того, что мы часто не сознаем происходящего, отнюдь не следует, что ничего не происходит, а ведь этот, не всегда сознаваемый нами, процесс и есть история, и определить, длится она или окончилась, как раз и значит определить, имеют ли место некие, пусть не сразу замечаемые нами, социальные процессы.
Ход этих процессов, ход истории, понятно, оставляет на своём пути величайшие сокровища человеческого самопостижения, подъёмы духа, научные открытия и художественные шедевры. Ценность многих из них непреходяща, но всякое стремление объявить ее окончательно установленной неизбежно приходит в противоречие с реальностью, поскольку процесс так или иначе продолжается. Не случайно и отношение людей к прежним духовным ценностям порой разительно меняется: то их оплёвывают, то воскрешают, оплёвывая другие, то оттесняют и те и эти, созидая новые. При всем почтении к духу, человек все же смертное существо, индивидуальные возможности которого ограничены, и разум постоянно предостерегает его от слепой веры в силу внеэкономического порыва, раз и навсегда исправляющего общество и насаждающего абсолютную справедливость. Мы не знаем, в каком состоянии либеральное общество способно предаться подобным порывам, и тем более не знаем, способно ли оно им разумно противостать. Уверения. Фукиямы, что социальный процесс окончен и неожиданностей не будет, рождают благодушие и толкают либеральное общество к кризису и, вопреки его предсказаниям, к продолжению истории.
Нынешние уверения, будто коммунизму пришёл конец, столь же малоосновательны, сколь и былые уверения, что пришёл конец капитализму, в пору великого кризиса 1929 года. Разумеется, неофеодальная российская держава упёрлась в тупик, из которого в сложившихся формах ей без колоссальных потерь не выбраться. Вот ее лидеры и стремятся эти формы перестроить. Но делать отсюда вывод, будто происходящее является революционным наступлением на самые фундаментальные институты и принципы сталинизма и заменой их принципами, хоть и не равнозначными либеральным, но ведущими к таковым, да еще ссылаясь в доказательство на то, что Николай Шмелев не имеет ничего против того, чтобы его сравнивали с Милтоном Фридманом, все-таки смешно. И если говорить о сегодняшнем дне истории, то статья Фукиямы – ярчайший пример того, как плохо мы понимаем этот сегодняшний день, как плохо поняли современники – и дома, и в особенности за рубежом – намерения Михаила Горбачёва и его незаурядную, конечно, общественную роль.
Горбачёва на Западе часто изображают чуть ли не врагом коммунистического порядка и коммунистической идеологии, тогда как на деле он стремится их спасти и сохранить. Горбачёва не первым понял, что тотальное общество с внестоимостным хозяйством обречено на отставание. Это ощутил еще в 1921 году Ленин, потом Хрящев, интересовавшийся экономическими проектами харьковчанина Е. Либермана, потом Косыгин, доведший свою реформу до утверждения ее Пленумом ЦК КПСС. Горбачёва, однако, совершил следующий и важнейший шаг: он признал, что компромисс с реальностью не может быть стабильным без политических перемен. Фукияма согласен, что усилия Горбачёва направлены на то, чтобы узаконить и тем упрочить власть КПСС, и все же он верит, что санкционированная Горбачёвом «критика советской системы явилась столь основательной и решительной, что почти не оставила возможности возврата как к сталинизму, так и к брежневщине каким-либо простым путём». Но главное даже не в том, что возможности такого возврата отлично сохранились.
Прежде всего, покамест нет оснований утверждать, что в стране вообще вводится стоимостное, рыночное хозяйство, о котором столько говорят. В течение шести лет перестройки шли как раз обратные процессы – неограниченная эмиссия, прямые конфискации, драконовские налоги, директивные повышения цен, при том, что монопольная хозяйственная структура не только не претерпела сколько-нибудь серьёзных, сущностных изменений, но, располагая государственной властью, могла успешно тормозить возникновение независимых от неё хозяйственных единиц.
Меняются лишь формы, в которых элита КПСС управляет хозяйством и обществом. Ее правление являлось, по существу, нелегальным с конца двадцатых годов, с тех пор как его осуществляли непосредственно партийные органы при содействии карательных, а так называемые советские, то есть государственные органы только проводили в жизнь предначертания партийных. Горбачёва стремился передвинуть властные полномочия в государственные органы высшего этажа, приняв на себя и возложив на своих помощников руководство ими. Это шаг навстречу реальности, не умаляющий, однако, значения партийной элиты, – Съезд народных депутатов на треть составлен из депутатов, назначенных общественными организациями, то есть самой КПСС и подведомственными ей комсомолом, профсоюзами и т.п., а Верховные Советы СССР и РСФСР образованы не прямыми, но двухступенчатыми выборами. И все же и на Съезды и в Верховные Советы попали инакомыслящие, что прежде практически исключалось. Настаивая на избрании Председателями Советов всех уровней руководителей соответствующих партийных комитетов, Горбачёва также шёл на определенный компромисс, поскольку депутаты Советов обретали возможность отвергнуть наиболее бесчестных и бесчеловечных партийных деятелей, прежде назначавшихся центром без оглядки на рядовых партийцев, не говоря уже о беспартийных. Компромиссом с реальностью явилось и допущение публичной критики и вообще некоторой гласности.
Эти уступки реальности не столь, конечно, значительны, чтобы лишить партийную элиту власти. К тому же законодательная власть выборных органов была сразу почти целиком официально передана Президенту с его безмерными полномочиями. Изменения, правда, покамест завершились лишь на всесоюзном уровне; республиканские и тем более местные Советы, служившие некогда лишь для декорирования партийных директив, так и не обрели подлинных рычагов власти, и то и дело раздаются призывы к назначению Президентом для руководства на местах губернаторов и префектов, располагающих объёмом полномочий, равным тому, каким обладали прежде секретари соответствующих территориальных партийных комитетов.
Перенос правящих функций от партии к государству, принятый миром за переход к либеральному обществу, мог осуществиться лишь в виде отказа от неограниченной партийной диктатуры, в виде демократизации. Резонно спросить, в чем смысл этого переноса, разве прежде Генеральный секретарь ЦК КПСС не обладал всей той властью, которую обрёл Президент, разве власть обкомов не была более широкой, чем власть Советов? Так-то оно так, да только все снижавшаяся эффективность прямых команд побуждала менять рычаги воздействия на хозяйство и общество.
Речь шла не об отказе от внеэкономического хозяйствования, но все же о чуть более объективном учёте критериев хозяйствования, о создании хоть какой-то обратной связи, которая при прямом партийном руководстве могла быть лишь идеологической, а порой и вовсе номинальной. Единство и всеобщность прежнего хозяйства позволяли не считаться с реальными результатами хозяйственной деятельности, кроме, может быть, военных ее областей, поскольку предполагаемый противник задавал ориентиры, и гонка вооружений, разорявшая страну, была вместе с тем единственной областью, где страна участвовала в конкуренции за достижение мировых стандартов. Однако достижение этих стандартов ‘‘любой ценой» привело при Сталине и Брежневе к колоссальной растрате национальных богатств – и сырьевых и людских, равно как к разорению других областей хозяйства и культуры, что, в свою очередь, привело к нынешнему кризису, но одновременно и к некоторому осознанию наиболее дальновидными коммунистами необходимости как-то сообразовываться с экономическими законами. И поскольку прямое партийное внеэкономическое управление совладать с этой задачей не может в силу самой неограниченности своей власти и веры в неограниченные возможности власти, возникла нужда переориентироваться на государство, которому доступна большая гибкость.
Гибкость эта предполагает, однако, не отказ от внеэкономического управления, но осуществление его в квазиэкономических формах. Характерно, что чуть ли не тройное увеличение количества денег в обороте и резкое повышение цен осуществляются при сохранении государственной хозяйственной монополии, даже без большой косметики. Между тем движение к либеральному обществу, требующее, конечно, и другой финансовой системы и другой системы ценообразования, должно бы, прежде всего, разорвать тотальную государственную монополию.
Нынче нет недостатка в рассуждениях о «разгосударствлении» и даже «приватизации» хозяйства, но стоит вспомнить, что и форма колхоза, коллективного хозяйства (разумеется, при подлинной его добровольности и независимости), могла быть эффективной, однако прямое внеэкономическое подчинение колхозов райкомам партии и райземотделам лишило колхозы экономической эффективности, обратило их в феодальные хозяйства со сменяющимися помещиками-председателями. Точно так же рекламируемое «разгосударствление» предполагает не подлинную самостоятельность предприятий, но их круговую зависимость от директив государства. Поддерживается такая зависимость многообразно, – тут и преимущества кооперативам и малым предприятиям, открывающимся при больших, подчинённых министерствам заводах, тут и создание подобных предприятий самой КПСС, тут и акционирование, при котором контрольный пакет остаётся в руках государства, КПСС или ее влиятельных функционеров, тут и преобразование министерств в якобы независимые концерны и компании, тут и право милиции вторгаться без санкции прокурора в любые служебные помещения, тут и создание территориальных объединений промышленных производств, способных сообща оказать неодолимое давление на местную власть, от которой они практически не зависят. Весь разрыхлённый на первый взгляд комплекс предприятий по-прежнему так или иначе управляется из единого центра. Лишь с гражданами, являющимися и рабочими этих предприятий и покупателями их продукции, могут возникать более свободные, вроде бы рыночные отношения, нo частичный рынок товаров и рабочей силы без рынка капиталов и идей остаётся, в сущности, монопольными может повышать цены, не сообразуясь с реальной стоимостью, – ведь возникновение конкурирующих независимых производителей и продавцов, способных цены сбить, по-прежнему не предполагается.
И все же переход от чисто партийного, при котором народу, отведена роль быдла, к государственному управлению позволил бы лучше ощущать народное мнение, передавать исполнение определенных функций людям, пользующимся народным доверием, а не посаженным сверху, позволил бы даже как-то стимулировать производство. Понятно, переход от партийного управления к государственному лишь создаёт для всего этого возможности, а использование их зависит уже от воли народа, от его активности, от избрания им депутатов, выражающих его волю, от стойкости и проницательности этих депутатов в борьбе за демократию. Горбачёва, конечно, надеялся, что затеянное им частичное отступление к реальности, совмещающееся с народным стремлением вырваться из нарастающей бедности, будет казаться совершенствованием системы, которую в действительности коренным образом усовершенствовать невозможно. И так бы, должно быть, и казалось, начнись такое сразу после смерти Сталина или хотя бы падения Хрущёве, не обломись иллюзии шестидесятников о броню танков, кативших по Праге. Но, когда приступили к политическим реформам, хозяйственный кризис был слишком глубок, чтобы его быстро преодолеть; судорожные действия нового правительства, прежде всего безудержная эмиссия, его лишь усугубляли. А новые органы высшей государственной власти продолжали издавать законы и указы, кодифицировавшие намерения реформаторов. Лучшей надежды еще какое-то время выстоять в состязании с либеральным обществом, чем, по ленинскому примеру 1921 года, частичное отступление к реальности, у обнажившей свою природу системы и впрямь не существовало. Но с каждым днём отчётливее было расхождение интересов правящего слоя и человека с улицы, влачившегося от одного пустого прилавка к другому.
Разумеется, новая политика требовала идеологических поправок, и на смену догматизации идей Маркса и Ленина выдвинулась канонизация великодержавности и государственности как высших народных благ. Для укрепления идеологии, утратившей сообразность с происходящим, вместо беспощадной рациональности все больше требовалась нерассуждаюшая вера, и началось прямое сближение с религией, прежде противополагавшейся марксизму-ленинизму, и особые возможности получило православие. Оно и впрямь не хуже ислама способно срастись с идеологией государственного социализма. Неслучайно врастают в эту идеологию и великодержавно-шовинистические мотивы. Уже провал европейской революции и переход к социализму в одной стране привёл при Сталине к трактовке социализма как национального явления и даже национального преимущества, неизбежно сближавшейся с другими шовинистическими идеями. Не случайно интернационалистами теперь именуют солдат, погибающих ради присоединения к национальной социалистической державе других народов, которыми она призвана руководить. Но перемены в идеологии и ослабление ее повсеместной непременности не упразднили идеологический характер государства. Все это показывает, что перестройку нельзя счесть отказом от основополагающих принципов феодально-социалистического порядка, что она призвана лишь его упрочить.
Понятно, реальный ее ход не вполне идентичен намерениям реформаторов. Перестройку поддержали прежде всего демократические круги, не задумывавшиеся о пределах возможных перемен внутри сложившегося порядка. Если даже они желали либерального общества, то чаще всею связывали переход к нему с лидером перестройки и, закрывая глаза на то, что его цели куда умереннее, порой даже ратовали за предоставление ему чрезвычайных полномочий, в полной уверенности, что пользоваться ими он станет лишь для расширения демократии, для революции сверху. Одновременно значительная часть партийного аппарата и руководства промышленностью и колхозами опасалась даже умеренных реформ и саботировала их, не позволяя государственным структурам стать эффективнее, чем были партийные. Демократическое движение оказалось слишком слабым, чтобы такому саботажу противостоять, и в итоге не то что переход к либеральному обществу, но даже задуманный компромисс с реальностью так и не осуществился.
Есть, конечно, парадокс в том, что реформатор Горбачёва ограничивал, главным образом, демократов, которые, сопротивляясь реакции, только и могли помочь хотя бы умеренной перестройке, и не давал в обиду реакционеров, не желавших и самого скромного компромисса и грезивших брежневскими и даже сталинскими идеалами. Но и этим подтверждается, что даже удача перестройки не привела бы к либеральному обществу. Не будем уж напоминать, что вполне сохраняется возможность восстановить правление сталинского типа, поскольку создание Коммунистической партией без официальной санкции законных властей комитетов общественного спасения, использующих армию для подавления демократических движений, является, как выяснилось, ненаказуемым, то есть высшая власть принадлежит фактически по-прежнему Коммунистической партии, независимо не только от исхода выборов, но и несмотря на то» что провозглашавшая такую власть статья шестая Конституции СССР формально отменена.
Ни одна партия, пользующаяся сколько-нибудь широким влиянием, покамест не выдвинула у нас либеральную программу ни буржуазного, ни социалистического толка. Лишь в национальных движениях, да и то не во всех республиках, подобные тенденции просматриваются, хотя смысл всех национальных движений прежде всего в противостоянии государственной хозяйственной монополии. Но спасение от неё нередко ищут не в либеральном хозяйствовании, но в национальном внеэкономическом правлении, пусть и не достигающем сталинской или брежневской жестокости, хоть и ее не исключающей. Словом, коммунистическое государство, которое Фукияма поторопился вытолкать со сцены, никуда в обозримое время уходить не собирается. Другое дело, каким оно станет, не сумев перестроиться.
Фукияма пишет: «Непонимание того, что корни экономического поведения лежат в сфере сознания и культуры, ведёт к часто совершаемой ошибке, когда явления, по природе своей идеальные, пытаются объяснить материальными причинами», – и продолжает: «Глубинные изъяны социалистических экономических систем были очевидны и тридцать-сорок лет назад любому, кто готов был не закрывать на них глаза. Почему же эти страны отошли от централизованного планирования только в 80-х годах? Ответ следует искать в сознании элит и руководящих ими вождей…» Но, во-первых, и в восьмидесятые годы Советский Союз не отошёл от директивного хозяйствования, напрасно именуемого плановым, да и не может от него отойти, покуда существует единая государственная хозяйственная монополия, покуда не существует реальной конкуренции в экономике и, соответственно, в политике. А главное, ложно само по себе чрезмерное противоставление материального и идеального, заимствованное с перевёрнутыми оценками из официальной марксистско-ленинской идеологии. Там оно хотя бы прагматически оправдано: государственная идеология внушает людям, что их дело-гнуть спину, трудиться, а не разговаривать, не размышлять, как их труд организован и на что направлен. Эту идеологию выражают и повсеместные упрёки депутатам, которые «только разговаривают», а не сеют хлеб и не стоят у станка.
После Макса Вебера нелепо отрицать роль сознания, характера ментальности или этики в экономическом поведении. Но это не значит, что, как в советской философии, все зависит от решения «основного вопроса»: что первично – материя или дух? Что бы ни было исторически первично, экономическая жизнь непрерывно демонстрирует сложнейшее взаимодействие материального и идеального. Тут пагубна абсолютизация как материи, так и сознания. Заявляя, что изъяны социалистических систем были очевидны уже тридцать-сорок лет назад, и тут же утверждая, что причину отказа от них в наши дни следует искать в сознании элиты, Фукияма побуждает думать, что все кругом эти изъяны видели, только элита не замечала, чем ставит под сомнение умственные способности элиты и самую ее элитарность. Не верней ли признать, что элита, обращая эти «изъяны» себе на пользу, лишь в восьмидесятые годы начала сознавать, что чудесным для неё возможностям приходит конец.
Невозможно отрицать, что материальные факторы играли важнейшую роль в продлении жизни советской директивной системы. Ее укрепляло, к примеру, вовлечение в ее орбиту Восточной Европы: батевские ботинки и польские швейные изделия помогли смягчить напряжение в разорённой войной стране. Еще существеннее была роль огромных запасов нефти и газа, брошенных Брежневым на мировой рынок. Не будь подобного, за перестройку, видимо, принялись бы раньше. И ведь принимались, – и Хрящев, и позднее Косыгин, – но выяснялось, что есть еще порох в пороховницах, есть еще материальные возможности погодить с реформами. Вот и годили дальше, усугубляя хозяйственную нескладицу, и ныне страна расплачивается за желание элиты продлевать прежний порядок.
Уже в XIX веке у Российской Империи были причины переходить к либеральному обществу, и она совершала шаги к нему: это были и проекты Сперанского, и восстание декабристов, и реформы Александра II, и предложения Витте, и революция 1905 года, и Февральская, и Октябрьская, после которой, что ни говори, были проведены выборы в Учредительное собрание. И всякий раз власть останавливала перемены или проводила их половинчато и с опозданием, что вело ко все более резким социальным взрывам.
На любимый русский вопрос: «Кто виноват?» – история даёт ответы. В революции 1905 года виноват Николай II, отклонивший в 1903 году предложения Витте о коренной аграрной реформе, – дело не только в расстреле 9 января, послужившем детонатором всеобщего недовольства. В Февральской революции виноват все тот же Николай II, так и не облегчивший народную участь, да еще обременивший ее войной. В Октябрьской революции виноваты князь Львов, Милюков, Гучков, Керенский и другие деятели Временного правительства, за 8 месяцев у власти не созвавшие Учредительное собрание и слишком мало сделавшие для разрешения аграрного и национального вопросов. В революциях виноваты те, кто до них довели, а не те, кто их совершали. А Ленин, которого ныне изображают виновником всех бед, виноват в том, что разогнал Учредительное собрание и, не назначив новые выборы, устремился к социализму в стране, и феодализма-то еще не преодолевшей.
Нынешние сторонники принципов, которыми нельзя поступиться, крайние реакционеры, подобно прежним упрямцам, сами подрывают существующую систему. Но это не значит, что они способствуют созданию либерального общества, а не еще одной внеэкономической системы с другой идеологией. Горбачёва, как разумный консерватор, не хотел этим довольствоваться, и ради преодоления отсталости страны взялся за перестройку. Но верность убеждениям побуждала, а народная мученическая пассивность позволяла, все больше оберегать от перемен своих единомышленников и все меньше искать компромиссов со своими идейными противниками – демократами, а в реалистическом компромиссе только и заключалась возможность выхода из кризиса.
Большая и влиятельнейшая часть нашей элиты, вопреки Фукияме, предпочла не «протестантский» жизненный стиль – стиль богатства и риска, но «католический» путь – путь бедности и безопасности. А безопасность внеэкономической элите в XX веке гарантирует лишь единая монопольная система, в руках которой всеобщее распределение, непосредственно не зависящее от производства. Да и кто отнимет у такой элиты питающую ее упрямство надежду, что вдруг обнаружатся новые неслыханные запасы нефти или золота, или либеральные общества сочтут, что в их интересах помочь рушащемуся внеэкономическому порядку укрепиться, как это уже не раз бывало? Так что не стоит спешить с провозглашением конца истории.
Летописец у Щедрина ставит роковые слова: «История прекратила течение своё…» – лишь после того, как глуповцев поразило нечто неслыханное: «Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и, по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло… глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца».
Щедрин писал о городе Глупове более ста двадцати лет назад, когда еще и предположить было нельзя, что возникнет катастрофическое оружие. И все же он понимал, что даже история Глупова не может окончиться, пока не грянет подобная катастрофа. Вот и не стоит вслед за Фукиямой впадать в эйфорию. Ведь свобода не устанавливается раз навсегда, и даже славные имена вчерашних борцов за свободу порой уже на следующий день служат попранию свободы, – в этом трагедия коммунистического движения и попыток его усовершенствовать. История – это процесс повседневной борьбы за свободу, и только понимание этого, только каждодневная защита своей и чужой свободы позволит либеральному обществу избежать катастрофы конца истории, который может стать лишь концом свободы.
1 марта 1991 г.