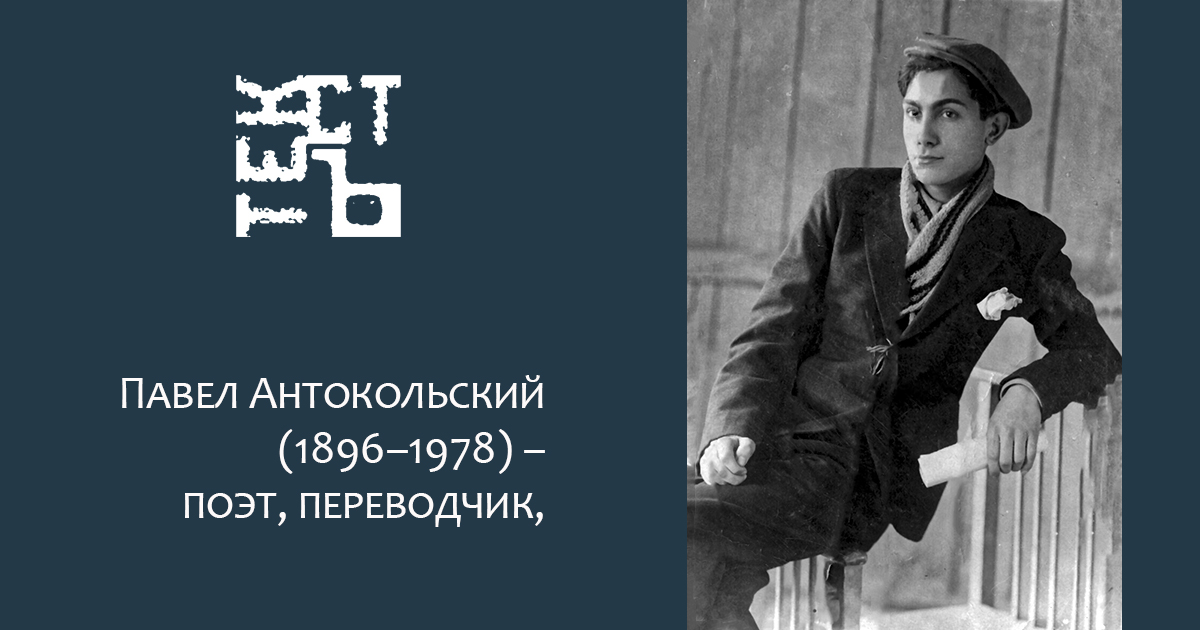Качнувшийся пейзаж
* * *
Вписался в пепельницу с точками
окурок, точка с запятой,
в углу, как спецуполномоченный,
встал зонт, в прихожей — понятой-
плащ, к стенке пригвозждённый, сохнущий,
безликий, будто бы Магрит
его оставил здесь, — но он ещё
качнётся и заговорит.
В ушко замочное игольное,
шерстя, втесняется гроза
под ровные, прямоугольные
радиоточки голоса,
и, не теряя равновесия,
таится фокус в рукаве,
как строчка с вывихом инверсии
в твоей косматой голове.
По этажерке взгляд торопится
вверх, дальше карт и глубже схем,
где, как забытая любовница,
М.Ц. стоит спиной к О.М.,
а выше — вяза вязь восточная,
сиди читай от «а» до «я»
колеблющуюся, непрочную
основу псевдобытия.
Свет-стеклодув сначала выдует
и тут же измельчит витраж,
рассеет раму недомытую
и ей не преданный пейзаж,
и твой порыв к ночному промельку
внезапной фары: подсвети
жуку, что нёс свою соломинку,
да выдохся на полпути.
* * *
Здесь нет тебя — и в этом что-то есть,
есть тихое присутствие того, что
названия не имет — как нарочно,
словарь пустует, будто вышел весь.
Есть месть вещей: разложены, цветны,
отмечены то складками, то штопкой,
то вдруг инициал мелькнёт, и робко
качнётся тень, отпрянув от стены.
Обычный цвет и отцвет, но чужой
у этого тряпья, тревожный запах,
чудовище на театральных лапах —
шкаф дверцей стонет, будто под вожжой.
В его всепоглощающем нутре —
рожденья, свадьбы, именины, будни,
и чем вместительней, тем беспробудней
сон памяти на платяном одре.
Случайный высверк, всплеск, ничтожный взмах,
как будто что-то сжалось и разжалось —
кулак? пружина? время? Просто жалость
и тяжесть в опустевших рукавах.
Так пусто, если нет тебя, что мне
теперь гадать во тьме на грани света:
вот эта синь внутри и склянь вовне —
зачем всё это?
* * *
Отражались в колодце обрывки воды,
шепелявила тень разговора,
сад по эту и — дальше — чужие сады
сторожили стрижи у забора.
Продираясь к земле, в лоскуты одеял,
вширь расплесканный в секторе частном,
свет не властвовал — лишь синеву разделял
на косые квадраты участков.
Пахло клюквенной жижей, листвой, шелухой,
разложившимися до компоста,
и согбенные люди из тьмы моховой
«дома-призрака» Роберта Фроста
выходили, бесшумные дети земли,
будто ведьмы их расколдовали,
на подсолнухи щурились и, как могли,
прикрывали глаза рукавами.
Шли насквозь, то есть вскользь. Не теряя лица,
свет на нет переписывал утро,
поджигая арбу, инвентарь кузнеца
и другую никчёмную утварь.
Шли намеренно-мимо затёкшей руки
скороспело оборванной вишни,
потому, что они — чужаки, чужаки,
марсиане на празднике жизни.
Ибо вышли на свет не на нас поглядеть,
затаившихся в бархате комнат,
мы для них — мертвецы, привидения, ведь
оживать — это видеть и помнить:
луг в огне, кобылицу и смутно, сквозь дым,
жеребячье нестойкое тельце —
с оловянным копытцем, с хвостом золотым,
с голубыми занозами в сердце.
* * *
Парусник качается у дока,
чайка — то белеет одиноко,
то в морскую угождает пасть,
но сухи, строги и однолюбы,
трубачи раскатывают губы
перед тем, как к музыке припасть.
Повторенье — мать ученья, если
безнадёжья маленький оркестрик
втиснется, откуда ни возьмись,
духовыми, дробью, перезвоном
в небо с ностальгическим уклоном,
вчуже облюбованную высь.
Что это? Реакция на возглас
зазывалы у таверны? Возраст —
время поворачивать назад?
Кто это в пальто со знаком ГОСТа,
близорук, неповоротлив, роста
вечно замыкающей отряд?
На флагштока тоненькое древо
сядет птичка, и сместится влево
резко покачнувшийся пейзаж,
поплывёт в надежде сохраниться, —
но спасёт тебя, смешная птица,
ученица, взяв на карандаш.
У неё в портфеле — ключ скрипичный,
час вокзальный и фасад кирпичный,
тихорецкой станции петит,
в рукаве — картинка-перевёртыш,
и рябина, даже если смотришь
в землю, под подкладкою рябит.
Всё сохранно: воздуха бумага,
след чернильный, чёрная собака
в подворотне и, белым-бела,
сплошь извёсткой вымазана, площадь,
где стоит задрипанная лошадь,
прикусив язык и удила.
Широка — а мы искали лучше,
как сказал любимец ПТУшниц
и слепой певец немой страны,
счастье есть — от кочки до Казбека —
столько-то кг на человека,
вот такой — по горло — вышины.
Скромный скарб хватая из портфеля,
ветер с моря дует до аллеи,
прячется в стальные рукава
водосточных флейт, уходит выше,
о минувшем не договоривший
с дурочкой, не помнящей родства.
Но сохранно всё, что не изъято:
на стене из классика цитата,
у доски не найденный ответ,
проводы под дождиком, а позже —
самый зоркий сыщик на таможне
в безнадёжном поиске примет.
Сколько лет живёшь, себя не слышишь,
и чем дальше смотришь, видишь ближе,
как пестрит расцветочка пальто
в клеточку и в катышках по краю…
Это я, чужой стране родная,
и своей — родимое пятно.