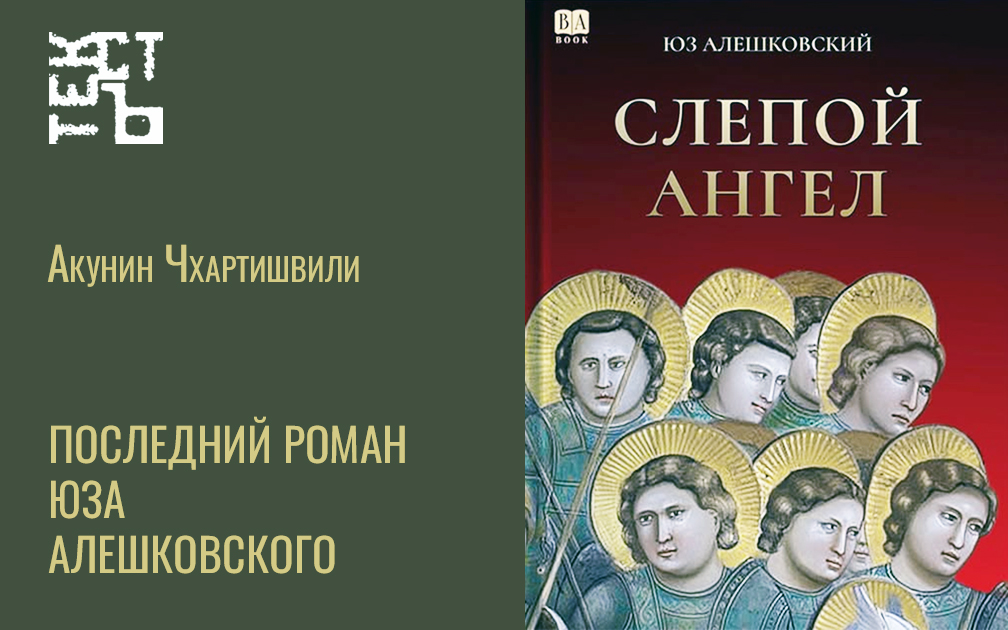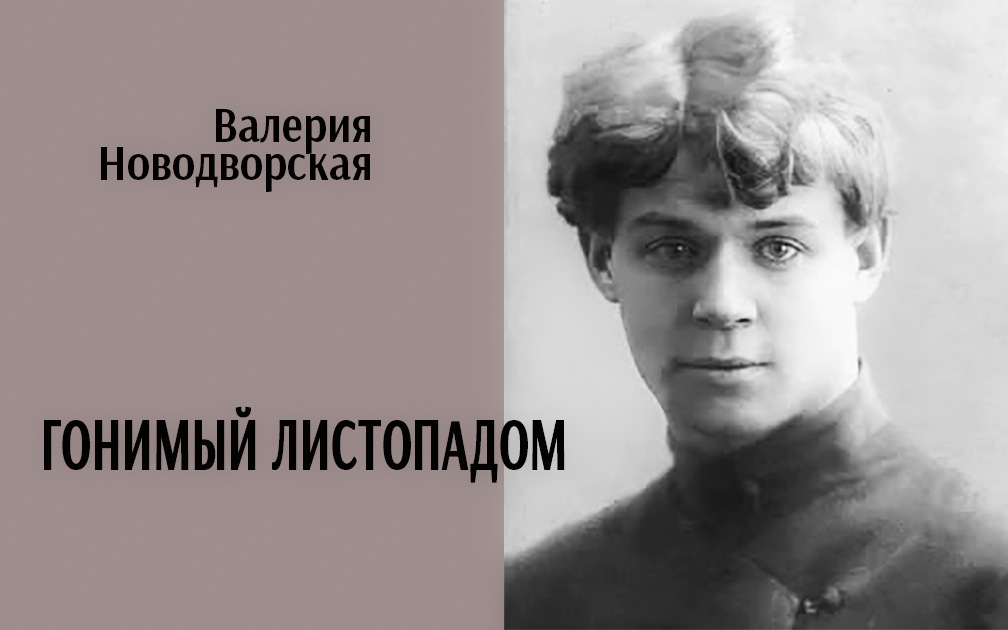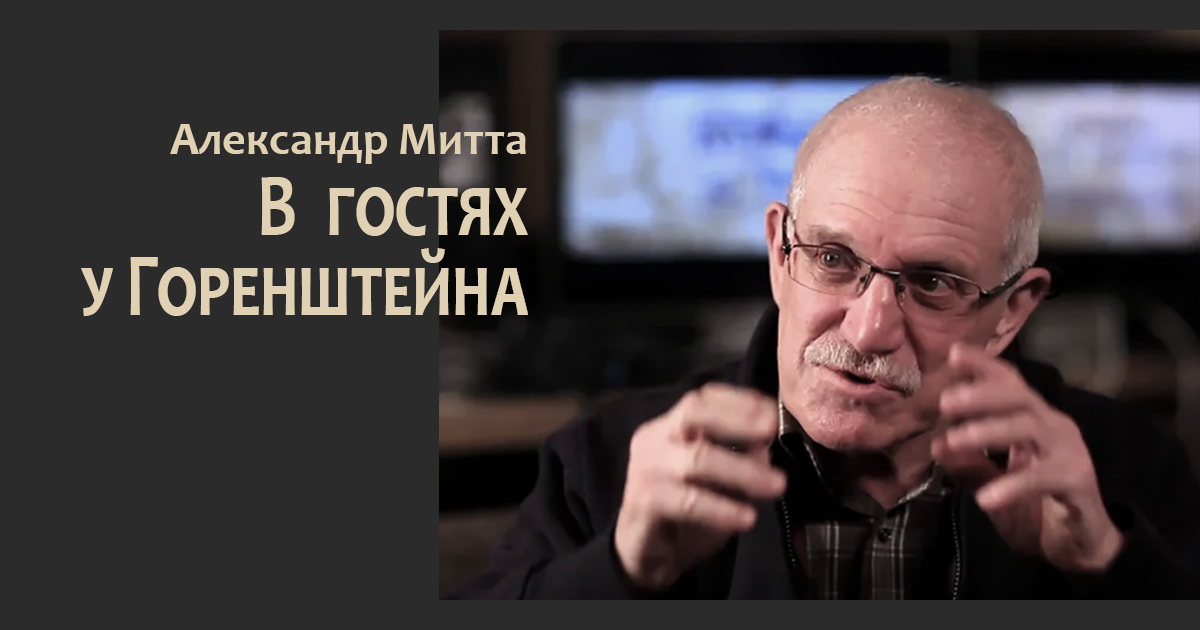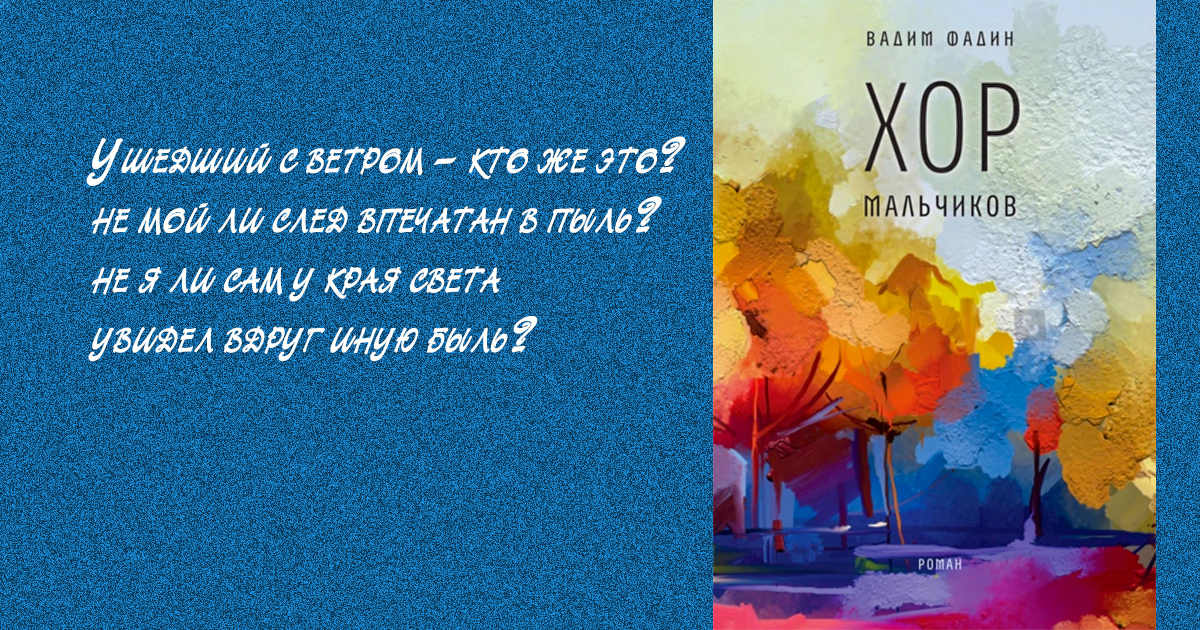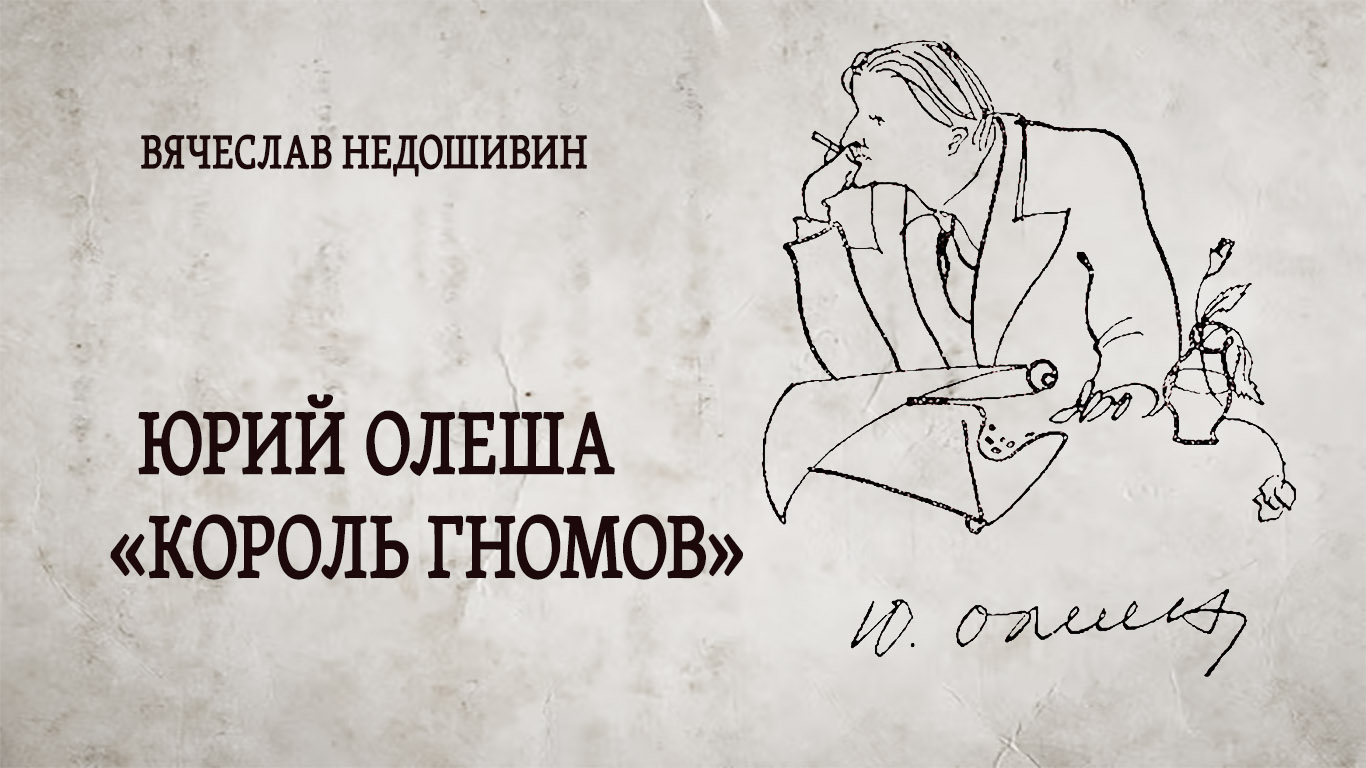Что бы увидел сеятель Христа,
укрывшись в пещере Платона от непогоды
В 1948 году Эндрю Ньюэлл Уайет кладёт последний сухой мазок на грубо сколоченную доску, загрунтованную под темперу. Картина представляла унылый пейзаж с фермой Олсонов в Кушинге (штат Мэн), в который художник вписал изломанный и нелепый как саксаул силуэт женщины. При виде этой доски невольно на ум приходит аллегория пещеры, использованной Платоном в 7 книге диалога «Государство». А, углубившись в созерцание гречишного поля, выжженного солнцепёком, вспоминается и притча Иисуса Христа о сеятеле (Матфей 13:3-23; Марк 4:3-20; Лука 8:5-15). Спросят: не испорчен ли вкус автора всеядностью? Нисколько. Ведь подлинное произведение искусства и должно будить воображение. Во всяком случае, с подобным смятением чувств, столкнулись американцы, купив билет в нью-йоркскую галерею Макбет, где в 1948 году экспонировалась картина «Мира Кристины» (англ.«Christina’s World»). Критики многозначительно переглядывались, аукционисты потирали ладони в предвосхищении высоких ставок, но всех обошёл директор Музея современного искусства Альфред Барр, выложив за доску размером 81 × 122 сантиметров 1800 долларов [Corliss:1986].
Американское искусство не знало икон, ярких традиций религиозной живописи. И вдруг краски заговорили строками из Библии, обернувшись бодрящей молитвой на авитаминозных потрескавшихся губах, а линии, контуры, формы, - вся живописная фактура, одним словом, зазвенела как горсть медяков в церковной кружке. С появлением этого полотна американскому искусству был дан образец бессловесной проповеди, вдумчивого богословия, которому нет нужды рекрутировать паству на задворках индустриальных городов с помощью зазывал. О картине написаны библиотеки. Но каждая новая статья или монография не прибавляют к ней ровным счётом ничего. Ведь подвергать miracle эмпирике - пустая затея. Чудо ускользает от цепких объятий профессоров, и в этом прелесть всякого подлинного произведения искусства. Да и есть ли повод трубить о шедевре, в котором нет ничего выдающегося: ни захватывающего сюжета, ни исключительных героев, ни скандала, без которого художнику – «грош цена»? И в самом деле, вместо пышногрудой молодки Рубенса, салонной красавицы Моне или испещрённой морщинами старушки Рембрандта, публике была предъявлена ничем не примечательная мисс Олсон, - паралитик, чей кругозор ограничивался квадратом ячменного поля, выжженного палящими лучами. В центр композиции художник поместил фигуру женщины, а точнее голову соседки по захолустью, заставив вращаться вокруг этой, на первый взгляд, такой тривиальной оси - и Космос и Логос. Опираясь на костлявую руку, Кристина порывается вослед мысли, не в пример телу устремлённой ввысь. К земле мятежный дух пригибает опостылевшая «сонная лощина», где пустоцвет вонзает жёлтые волчьи зубы в окорока глинозёма, чтобы зачал, вынес и изгнал из своего холодного чрева сухие и ломкие как стекло плевки сорных трав. Но довольно! говорит обитательница убогой лачужки, покинув кресло-качалку, грелку и методистскую Библию, замусоленную до дыр и покрытую испражнениями навозных мух. Протест, обуревающий героиней, весь её духовный вектор, включая и воспитание, и религиозность, и даже сексуальность, выраженную в тугой игре мышц, стреноженных параличом, Уайет тщательно документирует. Кристина, если угодно - дух познания, презирающий плоть. Подобное откровение, вложенное в уста американца, сильно приподняло живопись Нового Света в глазах европейских кураторов. Что же так поразило взыскательную публику? Работа Уайета, даже если не знать всей подноготной, наталкивала взгляд на безрадостный, по сути, пейзаж, - мёртвое, почти выжженное пеклом поле, одиноко коротающие свой век фермерские лачужки, заросшую колею, которую давно не распахивало колесо старенького форда, брички или телеги. Героиня, - немолодая женщина, в розовом, облегающем платье, с проседью в жёстких чёрных волосах, - появляется из-за границы холста, как любопытная мышь полёвка, хватающая ноздрями душистый и пряный запах амбара. В его сусеках, поскребясь, можно добыть дюжину ржаных зёрнышек, полусгнивший початок кукурузы или горсть гороха, выскочившего из стручка и забившегося под пол, - туда, где почили в бозе медяки, цыганские булавки и дешёвые серебряные колечки, скреплявшие брачные узы пионеров, заселявших прерии, чтобы вести бесчленные войны с индейцами пауни, сиу и апачи. Вот тень от забора - вглядитесь: она упала на окаменевшую спину парализованной женщины. Похоже, несчастной удалось проползти под штакетником, чтобы забраться на отцовское поле, - так сильно в ней любопытство, так неизбывно одиночество этого миром оставленного существа. Кристина пала жертвой необузданной любознательности. Чёрный кожаный поясок, стягивающий осиную талию женщины, демаркирует границу, отделяющую дух от плоти, Сциллу от Харибды, «образы» на стене пещеры от подлинных «идей», которые все же не столь бесплотны, коль отбрасывают тени, очутившись между глазом узника пещеры и палящим солнцем. На полотне Кристина созерцает сам этот Божественный свет, глядя сквозь чувственный мир вещей, предметов, которые в «Федоне» словами Сократа Платон определяет как тюрьму души. Ясно, что Кристину следует рассматривать как философа, а клочок фермерского поля - как её Государство. Но Кристина и зерно, попавшее в унавоженную почву, чтобы взрасти и заколоситься. Так в одном полотне уживаются и платонизм и христианство. Уайет вводит метафору соглядатайства. По мысли художника, и героиня, смотрящая вглубь пейзажа, и публика, наблюдающая за созерцанием мисс Олсон, и даже Сам Божественный Свет, обнаруживающий тварный мир по теням, которые тот отбрасывает - все эти точки зрения, складываясь, образуют бинокулярный субъект. У каждого из нас своя пещера, говорит художник. Но свет невечерний един, неделим, всемогущ и всеблаг. Этот свет просвечивает насквозь героиню. И в самом деле, в Кристине борются: низ и верх; дряблое, увядающее, предательски омертвевшее тело и светлый ум; предрассудки, веригами опутавшие сердце и бесстрашие первооткрывателя; мир Дольний и мир Горний. Чувственная достоверность, от которой шарахается героиня, осязая сущее, читая его тайные страницы своим обездвиженным телом, - не так ли и слепой, водящий пальцем по гусиной коже брайля, видит незримое духовными очами. Художник намеренно изобразил портретируемую со спины, зная, что натянутая, как тетива, фигура, резкий ракурс, расскажут о духовном борении куда больше, чем избыточно колоритные черты лица мисс Олсон, грубую лепку которого Уайет блестяще передал в другом портрете этой несломленной женщины. И верно, мастер американской фигуративной живописи лишил Кристину выражения глаз, чтобы зритель идентифицировал себя с точкой зрения модели, увидел то, что прозревает праведница, попал в её внутренний пейзаж/пленер, субъективное пространство умопостигаемого. Это именно МИР КРИСТИНЫ, и вместе с тем – героиня, застигнутая цепким взглядом художника-духовидца в минуту духовного триумфа. Удивительная по цельности живопись. Каким светлым религиозным чувством веет от суровой сдержанности её красок, каким душевным теплом согреты образы, как горячо исповедует автор любовь и веру во Христа. Перед нами необыкновенно свежая работа, неувядающий пример творческого мужества и стоицизма. Образец того, как монументальность и хрупкая нюансировка темы, обилие ракурсов и сдержанная палитра чувств, - все образы, одним словом, воздевают к небу молитвенно сложенные руки. Вдохновенный этот жест пронизывает поэтику картины. Всё в ней устремлено к вертикали: и выверенная композиция, и лепка фигуры, застывшей в тревожном ожидании, и холодное солнце, бросающее скупые, но обнадёживающие косые лучи на вспаханный колесом глинозём, крышу утлой хижины и деформированные (как две прохудившиеся штакетины) руки мисс Олсон. Даже проплешина на горизонте напоминает аккуратно выстриженную тонзуру монаха доминиканца. Перед нами глубоко религиозное полотно, в котором и вещь, пребывающая в ничто, и Свет, выхватывающий из мрака фигуры, образуют органическое единство видимого и видящего, созерцаемого и созерцателя, познаваемого и познающего. В заключении, характеризуя качество живописи, следует добавить, что достоинства картины в области воздушной и линейной перспективы столь велики, что ставят Эндрю Ньюэлла Уайета в один ряд с гениальными Джотто и Пьеро делла Франческо.
Санкт-Петербург, 2020 Юрий Кузин