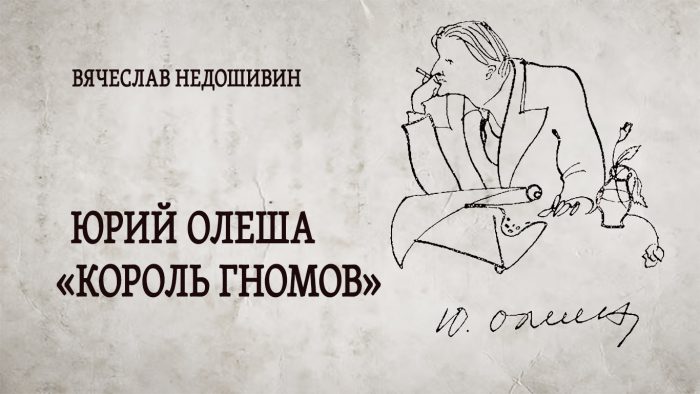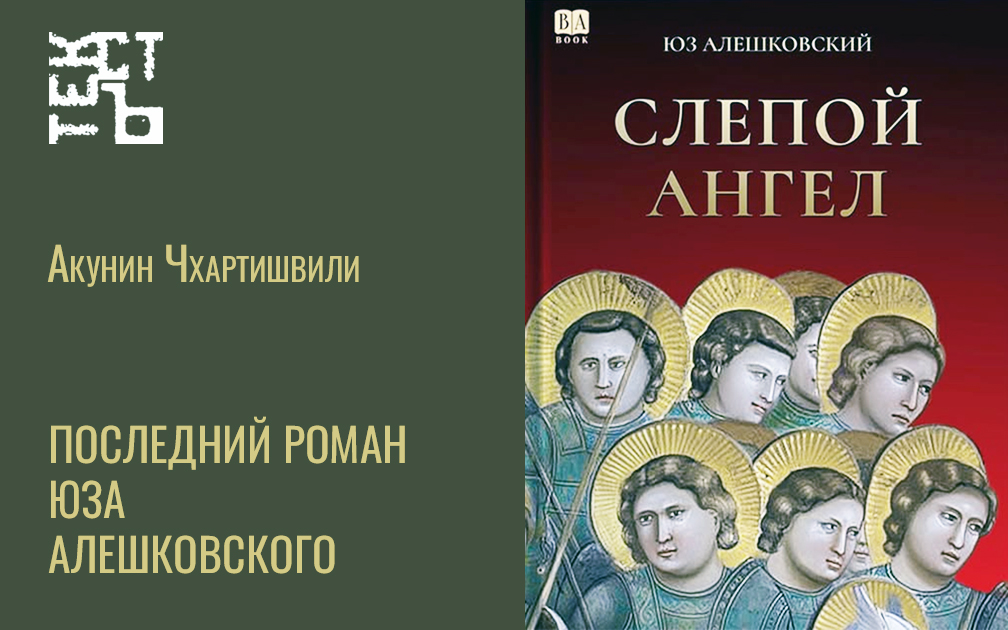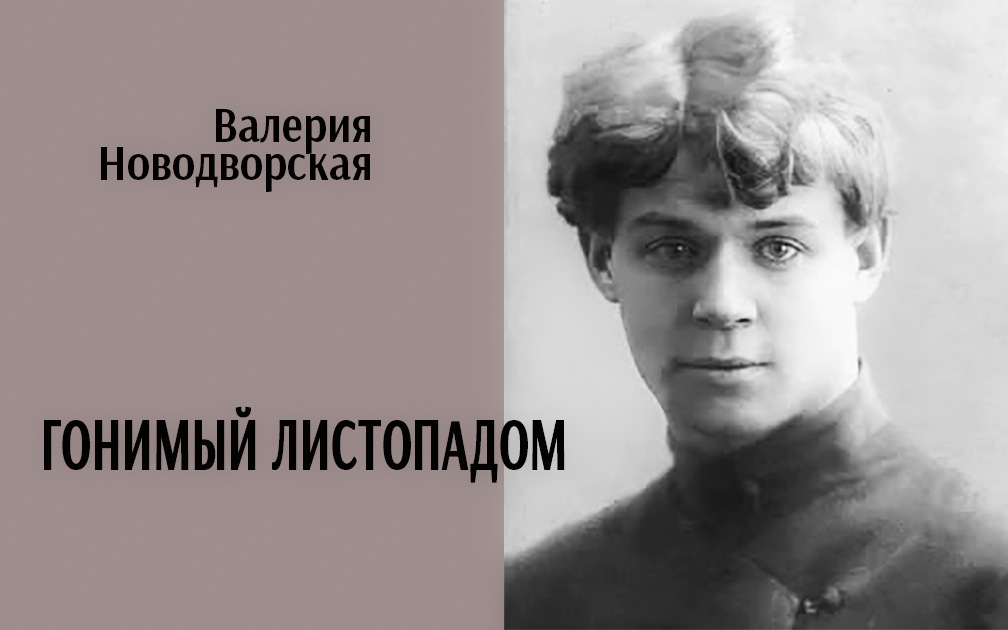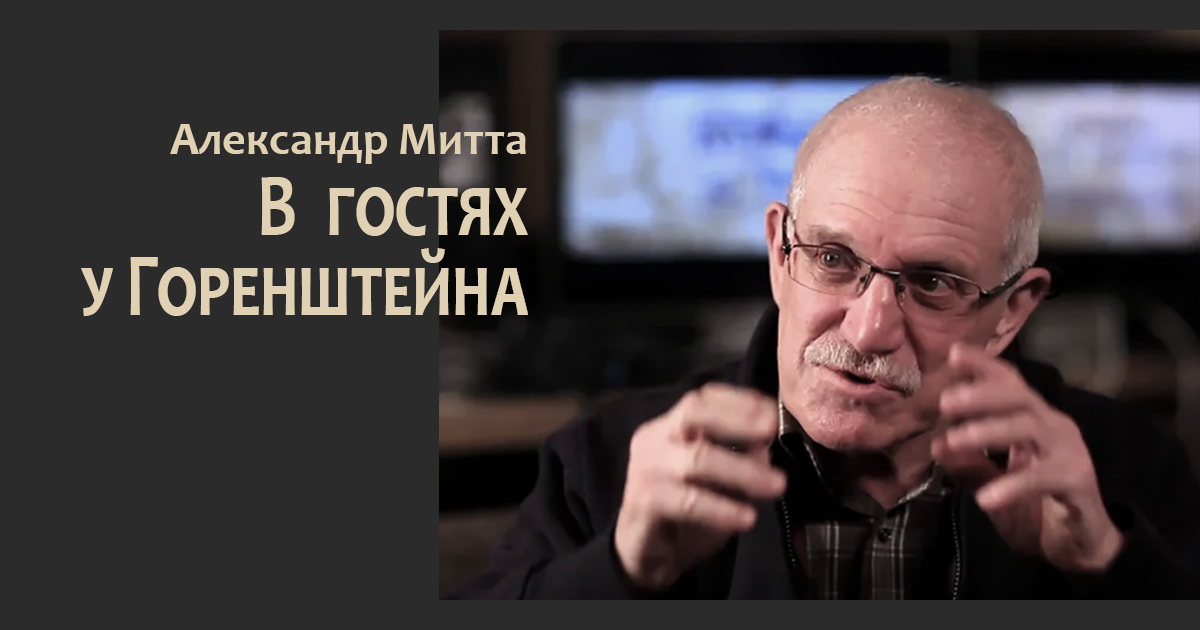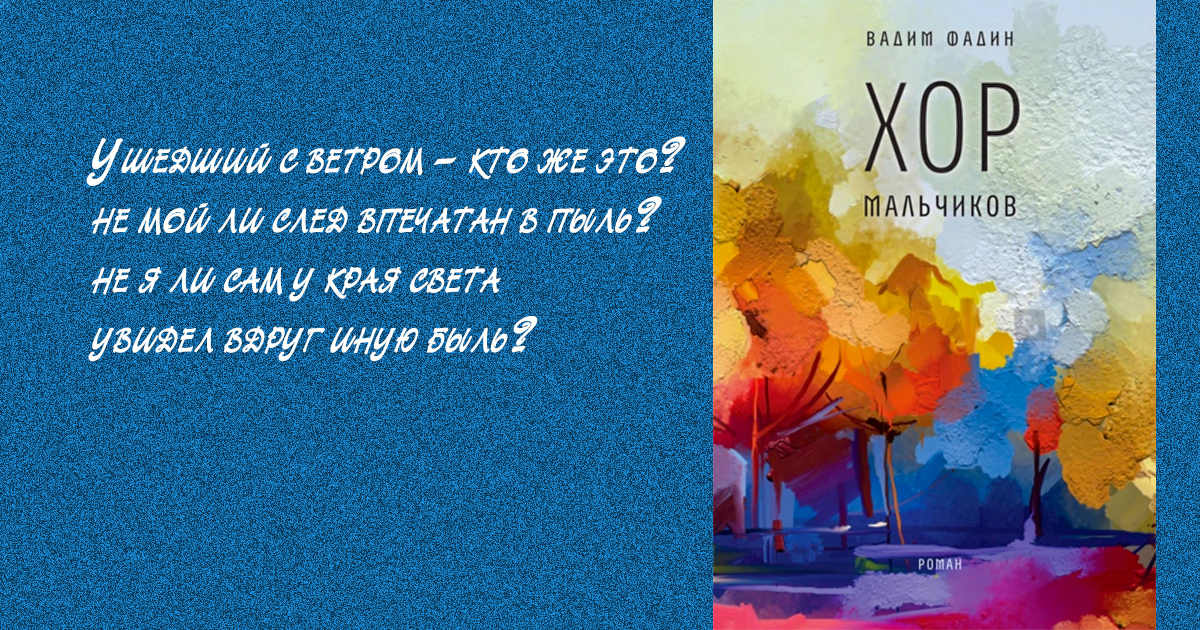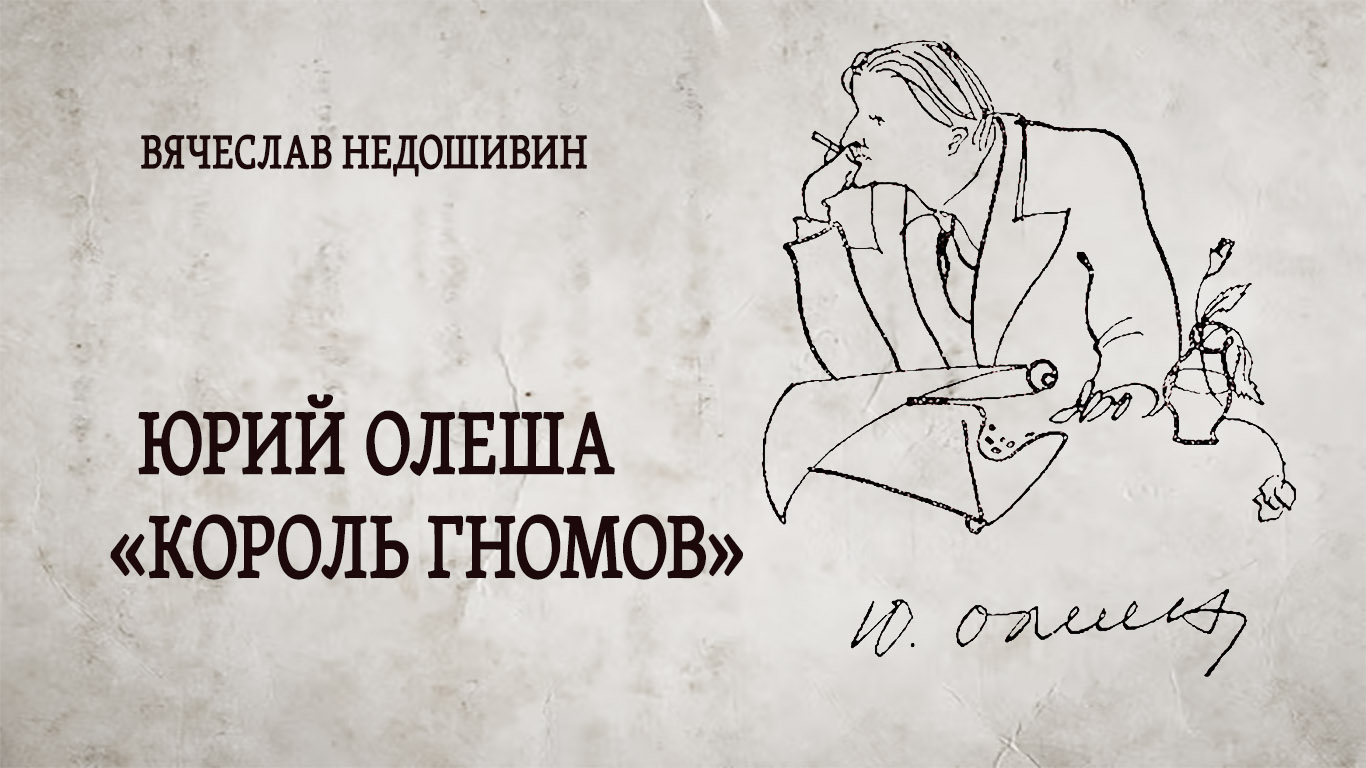Виртуоз «цирка в литературе» добровольно стал юрким шутом на арене собственной жизни.
Я боюсь. Боюсь, что окажусь не прав. Ведь что нужно, чтобы остаться в истории литературы? Конечно, во-первых, огромный и невероятный талант, данный от Бога. А на второе место я поставил бы характер творца и главное – его безумную и непреклонную отвагу. И это, «второе место», боюсь даже важнее «первого»!
Впрочем, что тут гадать? Ведь ровно 100 лет назад был уже дан великий «рецепт» настоящей литературы, крик в вечность, который, представьте, так и назывался «Я боюсь». «Настоящая литература, – написал в статье «Я боюсь» Евг. Замятин, – может быть только там, где ее делают… безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, – тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло…»
Это было напечатано у нас в 1921-м, в год смерти Блока и расстрела Гумилева, в самый «двусмысленный год» революции, когда в литературе на свет появились «юркие», по выражению Замятина, люди, способные подлаживаться к новой власти. Их число росло в геометрической прогрессии и – я и тут боюсь! – растет по сей день.
Так вот для Юрия Олеши, нынешнего классика, в 1921-м всё только начиналось еще. Ему как раз пошел тогда двадцать второй год. Он только-только напечатал в Одессе две свои поэмы с говорящими для его жизни названиями: «Агасфер» и «Беатриче». По сути поэтом он и останется, ибо сама проза его – поэзия.
Адрес первый. Рождение «Беатриче».
(Вознесенский пер., 7)
Девочка была так хороша, что, наверное, не отбрасывала тени. Она сидела на подоконнике дома напротив и читала книгу. А рядом лежала большая кукла. Кто бы знал тогда, что так начинаются великие книги…
Девочке было 13-ть, звали его Валей Грюнзайд, и она просто сидела и читала сказки Андерсена. Ее заметил из окна Олеша, забежав к другу Катаеву в дом 4 по нынешней ул. Жуковского, и, вообразите – влюбился. Да так, что всем стал говорить, что вот-де – «ращу себе жену». Но главное не в этом (девочка станет потом женой его друга, писателя Евг. Петрова), главное, что увидев ее и куклу, он тут же поклялся ей написать сказку получше, историю, которая прославит ее.
Он жил тогда в первом своем московском доме на Вознесенском, жил вместе с Ильфом в комнатке, где буквально за стеной гудела ротационная машина газеты «Гудок» и где, к слову, бумаги для писаний было навалом – рулон за рулоном. Он и сказку «Три толстяка» начал лежа на полу и отрывая кусок за куском серой газетной ленты.
Дома этого нынче нет, не сохранился. Но сохранились воспоминания об этом жилье в 1923-м и даже знаменитые литературные тексты. «Никого ротационная машина, начинавшая гудеть в два часа ночи, не будила, – вспомнит друг Олеши Семён Гехт. – А преимущества от соседства с ней были. Можно было, сделав спросонок шага два-три, потянуться за свежим номером и прочитать свой последний фельетон». Он помнит, что Олеша и спал здесь на полу, а Ильф – «на пружинном матраце в красную полоску», купленном на Сухаревке. Тот же Петров добавит: «Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. – И рассмеётся. – Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «12 стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца»«. А уже с 1924 года, как напишет позже дочь Ильфа, «оба страдальца – Ильф и Олеша – получают! каждый! свой! отдельный! пенал!».
Они так и жили, меняя пристанища, как птицы на жердочках; вся их честная бесшабашная компания, приехавшая вслед за Валентином Катаевым «покорять Москву». Евгений Петров (брат Катаева), Гехт, Ильф, Славин, Олеша, даже прототип Бендера, сыщик из Одесского уголовного розыска, авантюрист «по натуре», Остап Шор. «Таланты всегда водятся стайками», – сострит позже Олеша. А уж что творилось и в этом, и других домах «компашки», вы легко вообразите, если вспомните, что в «Гудке», бок о бок с ними, так же весело «шуровали» на газетных полосах их друзья: Булгаков, Паустовский, Бабель, Багрицкий, Зозуля, даже одно время Пастернак.
Забегая вперед скажу – все они довольно быстро обзавелись солидными, даже роскошными квартирами, кроме, представьте, Олеши. Он, который был талантливей многих, если не всех из них («в нём, – напишут позже, – буквально играло, веселилось моцартианское начало»), так и будет жить – на жердочках! – в основном в чужих квартирах: то у Катаева (Мал. Головин, 12), то у Мейерхольда (Брюсов пер., 12), то у Шкловского, «бритого Сократа», по его выражению (Скатертный, 22), а то, после эвакуации, и в 4-комнатной квартире Казакевича (Лаврушинский пер., 17). Короче, завидовать ему было некому, хотя сам он, чего уж там, завидовал друзьям. Особенно Катаеву, другу-врагу. И кстати в следующем своем доме – очередном, конечно, «пенале» (Сретенский пер., 1/22) – Олеша и начнет писать главный свой роман, который так и назовет «Зависть». Его опубликует в 1928-м, раньше, представьте, чем в печати появится роман-сказка «Три толстяка». Сказку долго не хотели печатать. Не до волшебных историй было стране – страна считала, что строит из себя истинную «сказку» – государство рабочих и крестьян. Вот иносказательно им, строителям «нового мира», и станет завидовать главный герой романа «Зависть», да и автор его – Олеша. Но к чести его надо добавить: посвящение сказки «Три толстяка» девочке на подоконнике, новоявленной Беатриче его, он сохранит, хотя в героине сказки – «девочке Суок», циркачке, не только изобразит свою первую, еще одесскую любовь, но и сохранит для вечности ее настоящую фамилию Суок. Ее звали Серафима.
Адрес второй. От сестры – до сестры
(Сретенский пер., 1/22)
В детстве он был влюблен в цирк. Неделями копил пятаки на завтрак, чтобы купить билет с заветным лиловым штемпелем в тот плюшевый рай, где перья, литавры, конфетти, гимнасты и клоуны и – общее веселье. И где была – она!
«Я влюбился в девочку-акробатку – напишет. – Если бы не разлетались её волосы, то, может, и не влюбился бы». Но она, как он скоро подсмотрел, оказалась мальчиком, а волосы – париком. Мальчиком низенького роста, да еще довольно циничным. И от любви осталась лишь мечта.
Он и сам был низенького роста, на голову ниже всех в одесской «стайке». «Метр с кепкой» – говорят про таких. Но знали бы вы, что по происхождению он был на три головы выше остальных. Король! «Круль Ежи Перший»! Из семьи польских шляхтичей, род которой шел с ХIV века, от боярина Олеши Петровича, и единственный у кого был потомственный герб – олень с рогами и с подвешенной на шее короной. Хвастал, порой, что его могли бы избрать «Крулем Речи Посполитой». Да и любил вести себя царственно; мог с княжеской элегантностью, расхаживая который год в потрепанном пальто, небрежно перекидывать через плечо такой же потрепанный шарф. «Нищий Круль», – смеялся над ним Катаев, но признавал: «науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всём гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошёл самого латиниста…». Гимназию, кстати, окончит с золотом. И еще Ключик (а так Катаев назовет Олешу в мемуарной книге «Алмазный мой венец») опережал всех «независимостью своих литературных вкусов… Не подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному».
Впрочем, одна девушка, которую он полюбит на всю жизнь и которая станет героиней сказки «Три толстяка», звала его, коренастого да лобастого – «слонёнок». А он ее звал «дружочком». Имя ее – Серафима Суок.
Эту фамилию он сохранит в «Трех толстяках» для вечности.
«Дружочек» на всю жизнь
С тремя сестрами Суок – Лидой, Симой и Олей – дочерьми австрийского эмигранта, вращавшимися в литературных кругах, он, как и все, познакомился в поэтическом кружке Одессы «Зелёная лампа». Все здесь были за стихи и – за революцию. Как они бузили в 1919-м при организации профсоюза литераторов, вспомнит в эмиграции даже Бунин. Вспомнит, как на призыв к пишущим объединится в цех, тут же поднялся «дикий крик и свист». «Буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют, – пишет Бунин, – Катаев, Багрицкий, Олеша». Что вам нужно? – спросит Бунин Катаева и будет поражен цинизмом ответа: «Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки… За сто тысяч убью кого угодно».
Такое вот «за революцию»! И все в компании были за любовь. Лида станет женой Багрицкого, Оля выскочит замуж за Михаила Росинского, а Сима, очаровательница Одессы, смешливая, беззаботная и легкая «как перышко», в свои 16-ть так влюбит в себя 20-летнего Олешу, что он откажется даже от эмиграции, когда родители его соберутся в Польшу.
Кажется, она и сразу научит его целоваться (несмотря на годы, она оказалась куда опытнее нашего «короля») и через год покажет ему на ладошке ключи от пустой теткиной квартиры, где они станут любовниками. Не знаю, смешил ли он ее метафорами, писательским талантом «переименовать вещи» (он звал, например, расфуфыренных девиц «флаконами», говорил, что банка с перцем напоминает ему «общежитие гномов» в красных лакированных плащиках, а троллейбус, вообразите, Чехова: два окна – как пенсне, а верёвка от дуги как шнурок к нему), но уж точно не мог не восхищать девчонку, когда на вопрос какого-то продавца газет «откуда вы высовываетесь?», крикнул из окна второго этажа: «Старик! Я высовываюсь из вечности!..»
«Нищие, нередко голодные, веселые, нежные, они могли целоваться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных, – вспомнит их молодость Катаев. – Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Мы не без зависти наблюдали за ними, окруженными облаком счастья».
Я бы сказал по-другому: были неразлучны, потому что были, как дети. Пока, как дети. Ибо почти сразу «дружочек» выскочит замуж за богатого бухгалтера Мака в Харькове, куда переберется вся компания, а потом, ненадолго вернувшись к Ключику (ушла от него в одном платьице, а вернулась с «чемоданом барахла»), уйдет к однорукому поэту Нарбуту, который не только был куда как знаменит (входил когда-то в Петрограде в гумилевский «Цех поэтов», был знаком с Ахматовой и Мандельштамом), но скоро станет в Москве и влиятельным издателем, и работником ЦК партии. А когда Нарбута арестуют, она вначале войны станет женой известного искусствоведа и коллекционера Николая Харджиева, за «внимание» которого, шутка ли, соперничали Ахматова и вдовая уже Надежда Мандельштам. Впрочем, и его бросит, в 1950-х уведет от жены и засадит «под каблук» Виктора Шкловского. Такой оказалась «беззаботная, и легкая». Недаром Эмма Герштейн, знавшая ее, назовет ее «красавицей-вамп» и отметит в ней «что-то хищное».
Он же будет любить ее всю жизнь, но женится на ее сестре – мягкой и покладистой Ольге. Просто однажды, горько жалуясь на Симу, вдруг спросит: «А вы могли бы так обойтись со мной?» – «Нет, пожалуй», – ответит та. – «Тогда выходите за меня!..» И она переедет с Игорем, сыном, в Москву, в новый его «пенал», как раз в Сретенском переулке.
Но не она, а все-таки «дружочек» станет стимулом ко всему его небогатому творчеству. Станет причиной его пьянства под конец жизни и даже вечной финансовой подпиткой. Он ведь до конца дней будет приходить в богатый дом Шкловских и почти всегда уносить взятую, как бы в долг у Серафимы, крупную купюру. Взятую «на выпивку». И лишь после смерти «короля метафор» все знавшие его, да и мы с вами, прочтем в его дневнике последнее и горькое сравнение: «И от сестры, и до сестры замкнулась жизнь волшебным кругом…»
Адрес третий. Зависть.
(Камергерский пер., 2)
Сталин звал его «Алёшей». Так произносил его фамилию. «А что ты скажешь об Алёше? – спросил как-то Фадеева. – Сидит, понимаешь, целыми днями в кафе «Националь», пьет, а вокруг него крутятся иностранцы. Как бы не завербовали?». Фадеев рассмеялся: «Олеша такой человек, что если его завербуют, то он сам направо и налево, и шепотом, и громко будет говорить: «Меня завербовали, меня завербовали!»«. Так наш «герой» был спасен от неминуемого ареста. Но, если по правде, то вся жизнь его к 1930 году, когда он и Оля получили квартирку в этом «писательском доме», четко поделилась на работу и… болтовню. А если вспомнить слова Замятина – на былое бунтарство и… стыдную юркость.
Сегодня мало кто помнит, что в «Гудке» он стихотворными фельетонами под псевдонимом «Зубило», зарабатывал больше всех. Свыше 500 заметок, популярность бешенная, тонны писем от читателей, специальный вагон для него во время подписки на газету, на котором он разъезжал по городам и весям и на спор, по подсказанным из зала рифмам, сочинял для изумленной публики остроумные экспромты. Ну и бешенная зависть коллег по газете. А он писал по ночам роман, который изначально назвал «Зависть». Не писал – вынянчивал, ибо первую страницу переписывал, свыше 300 раз.
«Он поет по утрам в клозете» – вот первая фраза романа. Кто поет? Почему надо завидовать этому, пардон, засере, чей «кишечник упруг» и чьи «соки правильно движутся в нем»? Да потому что он и сам «правильный человек», производитель дешевой колбасы и организатор огромного комбината, да рабочей столовки под именем «Четвертак». Вот кто нужен стране-сказке, а не поэты, вроде тонкого и несчастного Кавалерова.
Роман ухнул, как настоящая бомба! Феноменальный успех! Вот когда он реально ощутил себя королем слова. Не стайка друзей, все писательские стайки оглохли от зависти. Через два года, в 1929-м, сам МХАТ поставил его пьесу «Заговор чувств», написанную по мотивам книги. Пляши, король! И вдруг! Вдруг на Первом съезде писателей он промямлил:
«Кавалеров – это я сам… Тут сказали, что Кавалеров – пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в пошлости, и оно меня потрясло…»
Вот и всё.
Творец и гибель
Он ясно понял, как заметит Шкловский, что в советском государстве его «герои-мечтатели» никому не нужны». Вот, где потребовался бы характер и отвага, которых, увы, не нашлось не в его «метафорической шкатулке» – в реальной жизни. Это был «автобиографический самооговор», как заметит один из литературоведов и – припечатает «Ключика»: «Запретив себе в искусстве быть самим собой, Олеша стал никем. Таков суровый и справедливый закон творчества. Или ты – это ты, или – никто». Дальше зияла медленная гибель Олеши. Именно так назвал свою книгу о нем блистательный Аркадий Белинков – «Сдача и гибель советского интеллигента».
Зависть сильное чувство. Тот же Катаев в «Алмазном венце» напишет: «Однажды Ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть». В дневниках он и сам написал: «Всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, что скромных художников не бывает, и если они претворяются скромными, то лгут… и как бы своей зависти не скрывали за стиснутыми зубами – все равно прорывается ее шипение… Зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству… это не черные тени, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гениями за стол».
Да знаем, увы, знаем: Катаев завидовал нутряному таланту Олеши (смешно, но даже просил придумывать ему метафоры!), а Олеша всю жизнь завидовал Катаеву. Но не творчеству его, нет – умению жить. В юности завидовал его «Георгию» за фронт и именному оружию, знакомству с Буниным, раннему вхождению в литературу и способностям поставить себя в ней, а позже, в период судорожного обогащения писателей – ловкой удачливости: первой квартире, легковушке, гарнитуру. Так завидовал, что, поссорившись с ним, назвал его даже «мерзавцем». И забыл, а может и не догадывался, что обоим им следовало бы завидовать отваге, бунтарству, непреклонности тех немногих, кто делал тогда настоящую литературу. Кстати, тот же Белинков за свой роман «Черновик чувств» был сначала приговорен к расстрелу, а потом отсидел свой срок «по полной»…
Говорят, зависть бывает и белой, и черной. Но я бы сократил это определение – зависть всегда была и есть серая. Иначе Олеша, друг Булгакова, того, кто называл его «Малыш» и для которого в голодные годы всегда была тарелка щей Таси, первой булгаковской жены, никогда бы не напечатал донос на писателя и не распускал бы про него «ругню». «Меня травят так, как никого и никогда не травили, – донес до нас осведомитель слова Булгакова. – В истории с «Мольером» одним из таких людей был Олеша, написавший в газете МХАТа ругню. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет всё, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту…» Ведь он так нападал на Булгакова, что уже третья жена того, Елена, пошлет умоляющую и ядовитую записку администратору МХТАа с просьбой не пускать Олешу на премьеру спектакля ее мужа: «Фединька! – напишет администратору. – Если придет Олеша, будет проситься, сделайте мне удовольствие, скажите милиционеру, что он барышник. Я хочу насладиться!..»
Да, он подлаживался теперь к власти – прав Булгаков, он на глазах становился «юрким» и всеми силами лез в правоверные «советские писатели». Но, ирония судьбы и великий урок случился в 1939-м, когда Сталин чохом наградил 170 писателей и поэтов «За выдающиеся успехи и достижения в развитии литературы», когда, помимо «генералов от литературы», наградил даже студентов еще Симонова, Алигер и Долматовского, но обнес орденами великих – Платонова, Ахматову, Мандельштама, Булгакова, Пастернака, даже вернувшуюся в СССР первую среди поэтов Цветаеву. А «Алёшу»? – возможно спросите вы. Так вот его, еще до Сталина, решили вычеркнуть из «списка благодеяний» сами генералы-писатели, те, в компанию которых он так рвался. Словом, его, «короля слова», даже не представляли к награде!
Тоже ведь – зависть! Не белая, не черная и не «в полоску» – серая!
Адрес четвертый. «Везувий в снегу»
(Лаврушинский пер., 17)
Так его назвала Вера Инбер. Просто в зимний, вьюжный вечер она и Шкловский, выйдя из «писательского дома» в Лаврушинском, где жил в последние годы и Олеша, увидели его на другой стороне переулка. Он шел «сгорбив сильную спину, опустив прекрасную голову в фетровой шляпе, – пишет Шкловский, – и весь обсыпанный снегом». «Везувий в снегу», – вырвалось у поэтессы. И как же точно вырвалось. Не просто бывший вулкан, но уже засыпанный снегом. Снегом забвения.
Впрочем, другой его знакомец, актер Борис Ливанов, тогда же назовет его, всяческого, как мы помним, «короля» – «королем гномов». Этот, напротив, вложил в эти слова мажорное начало, сказочность его, вечный цирк, остроумие и смех. Только вот, зная его жизнь в последние десятилетия, тот «трагедийный цирк», в который он рухнул после запрета печатать его с 1936 г., а главное – новый круг общения его, невольно подумаешь – его ведь и впрямь окружали теперь гномы, скалящие зубы от его шуток, острот, баек о прошлом. Смех короля, но ведь смех сквозь слезы.
Только в конце 1950-х вспомнили о нем (оказывается, еще живом!), поставив балет по его сказке. И через шесть лет после его смерти, в 1966-м, вышел фильм «Три толстяка» Алексея Баталова. Были еще два фильма по его сценариям («Болотные солдаты» и «Ошибка инженера Кочина»), не оставившие заметных следов, и бесконечные инсценировки Достоевского, Куприна, Чехова. Реально же была бедность. Не считать же скудных гонораров, которые он пышно профукивал в ресторанах с икрой и балыком и возвращаясь из которых по ночам, как вспомнит свидетель, выбирал открытые форточки подвальных квартир, куда Ольга, жена, послушно бросала оставшиеся и крупные купюры.
А вообще последние 30 лет ушли не на труд – на ту болтовню, о которой я уже говорил. И болтал, порой, ежевечерне, в ресторане «Националя», за «своим столиком» у окна-витрины с видом на Кремль, за которым, спаивая его, собирались случайные собутыльники. По словам Нагибина «подонки и дельцы».
Когда-то, еще перед войной, он, являясь сюда в полдень, отвалив официантке царственный комплимент: «У вас волосы цвета осенних листьев», выкладывал на стол, на манер парижских кафе, стопку бумаги – дескать, буду работать. Это был «цирк» для себя, до работы дело не доходило. Стопки коньяка перевешивали. А цирком для компаний вокруг были шутки его, когда вываливаясь пьяненьким он мог крикнуть человеку в какой-то форме «Швейцар, такси!» И услышав ответ, что тот не швейцар, а адмирал, тут же, под хохот, выдать: «Тогда катер, пожалуйста!»
«Я никогда не был алкоголиком, – каялся знакомым. – Я пил не от любви к питью, к кряканью, – а потому, что не знал, что делать в промежутках». Увы, беда была в том, что промежутки, укорачиваясь, становились просто жуткими. До поры, до времени здесь поили его в долг, а позже, опускаясь, он, «акын «Националя»«, как звал себя, добывал деньги поступками и вовсе унизительными. Скажем, у дома Фадеева перегораживал ему выезд из ворот, пока тот, морщась от презрения, не протягивал ему в окно машины десятку. А позже мог уже просто подойти на улице к любому знакомому и выклянчить 3 рубля – «на пиво».
Ключик к судьбе «Ключика»
Однажды, перед самой войной, сюда, в «Националь» после долгой прогулки поэт Липкин привел уже седую Марину Цветаеву. К ним за стол тут же подсел Олеша «с рюмкой коньяка» и его собеседник, киевский поэт Первомайский. Липкин в воспоминаниях не называет их имен (их «вычислил» не так давно критик Рассадин), но пишет, что про Олешу Цветаева знала и даже ценила его вещи. Пишет, что киевлянин «сыпал комплиментами» ей, пока Олеша не оборвал его: «Надо уметь говорить. Жмеринковские трюизмы тошно выслушивать». И тогда, пишет Липкин, киевлянин вдруг бухнул в ответ: «Всем известно, что вы стукач». Олеша (в мемуарах Липкина – «Москвич») сразу же отошел, прихватив рюмочку, а Цветаева, испугавшись, поднялась: «Уйдем отсюда. Немедленно». И на улице добавила: «В старину такая сцена кончилась бы дуэлью. А ведь мы в эмиграции им восторгались, его метафорами…»
Стукач! Было – не было, не знаю… Но как тут не вспомнить слова Сталина про «Алёшу»? Вождь беспокоился не «завербовали» бы его иностранцы. А ведь могли, зная о бедствиях его, завербовать к себе и Ежов, и Берия. Кто ж это подтвердит?..
Но что творилось при этом в душе «Везувия в снегу» мало, кто знает? И знает ли? Мало кто слышал, что он лечился «в Соловьёвке» от алкоголизма, но вылечился ли? Мало, кто читал его письма, дневники, записки на обрывках бумаг, которые друзья попытались собрать в две посмертные книги «Ни дня без строчки» и «Книга прощаний». И, конечно же, мало кто помнит, что Каверин, еще в 1928-м, спросив вдохновенного, казалось бы писателя, что он, после «Зависти», такого громкого и счастливого начала, будет писать после, вдруг услышал, как Олеша присвистнул и сказал: «Так вы думали, что «Зависть» – это начало? Нет, – сказал он, – это – конец».
Вот, если хотите, ключик к судьбе «Ключика».
«Так, значит, я не гений?» – ужаснулся перед кончиной. И метафорически связал образ приближавшейся смерти с творческим бессилием – подлинной смертью художника. Во всяком случае близким (так запомнили многие!) всё пересказывал и пересказывал свой последний сон:
«Лежу я где-то на чердаке, на рваном матраце, неукрытый, продрогший, и денег у меня нет. И приходит ко мне смерть. Пыльная смерть, с косой – и говорит: «Скажи, что ты умел делать в этой жизни?» Я отчаянно и гордо отвечаю: «Я умею всё называть другими словами!» – «Ну назови меня». И… что самое страшное? Я не могу ее назвать…»
Да, «Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было».
Это не последняя фраза «короля слова» – это, напомню, первая строка сказки «Три толстяка».
Вячеслав Недошивин