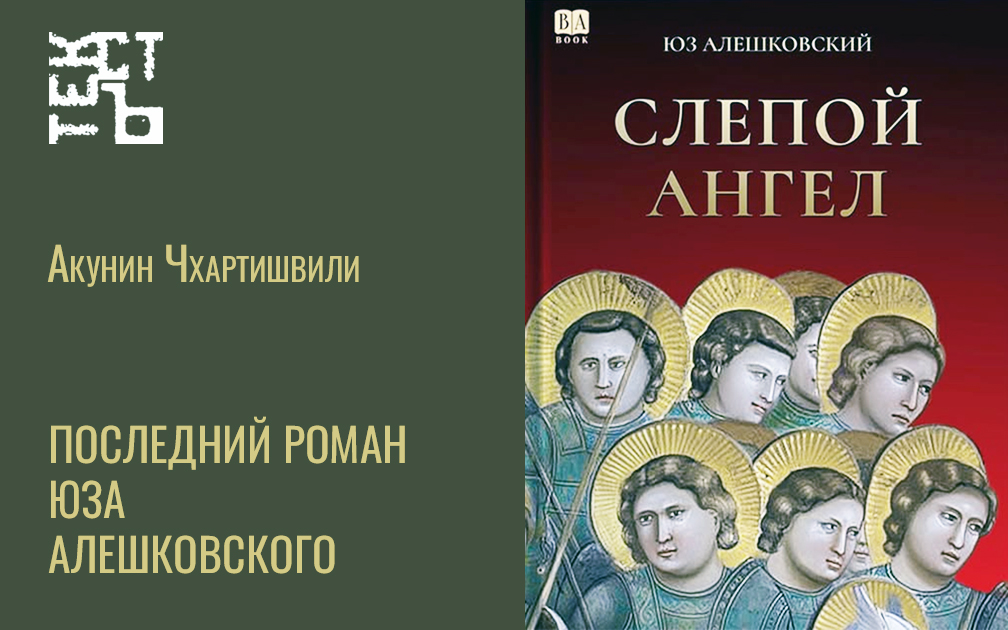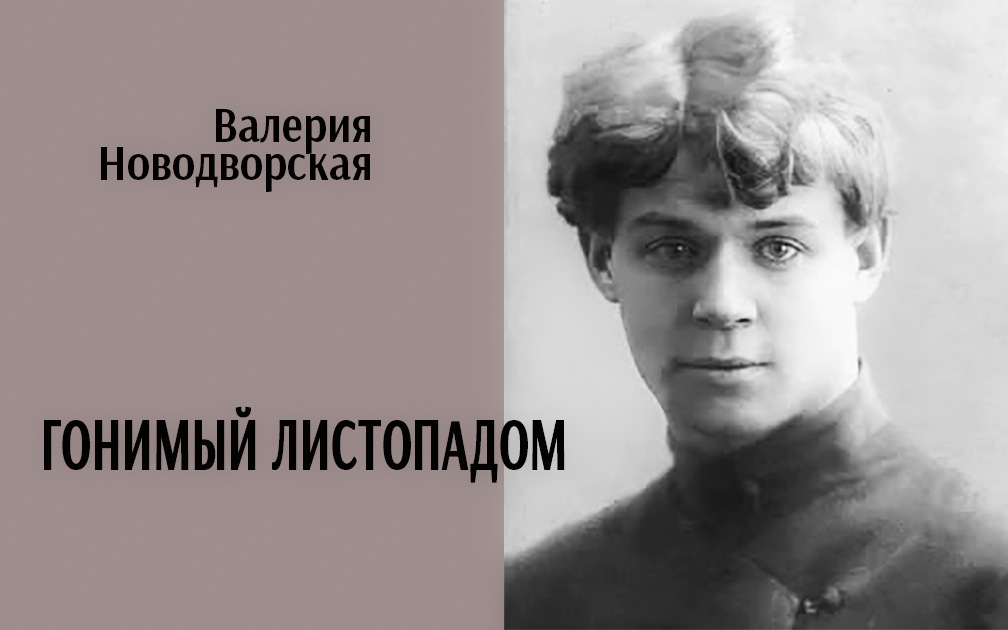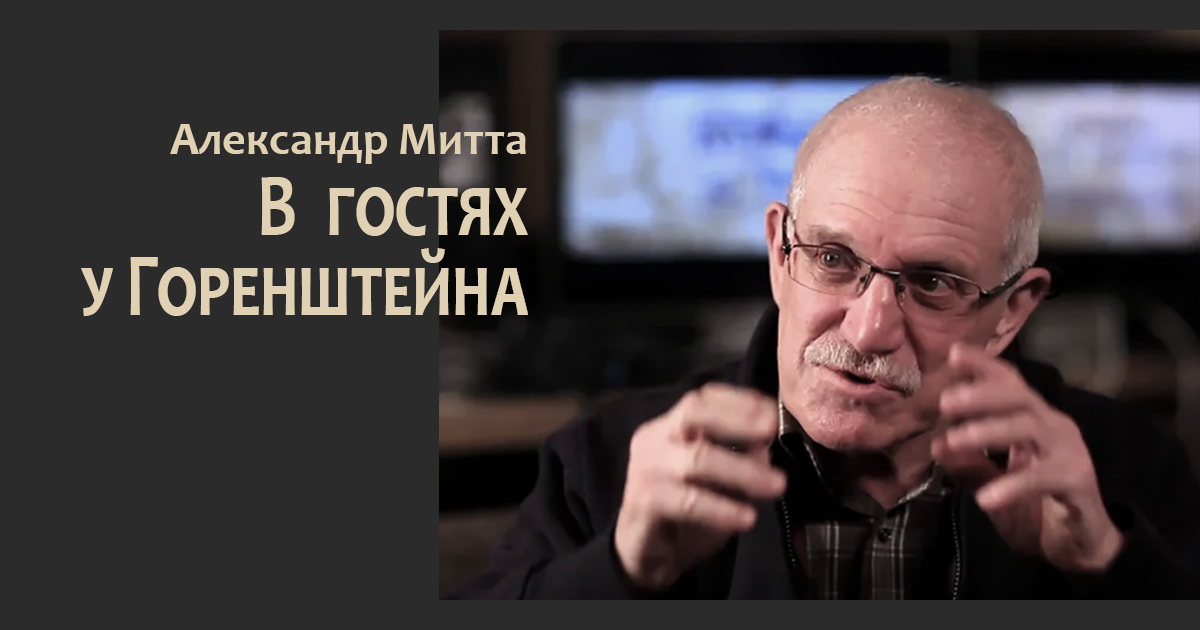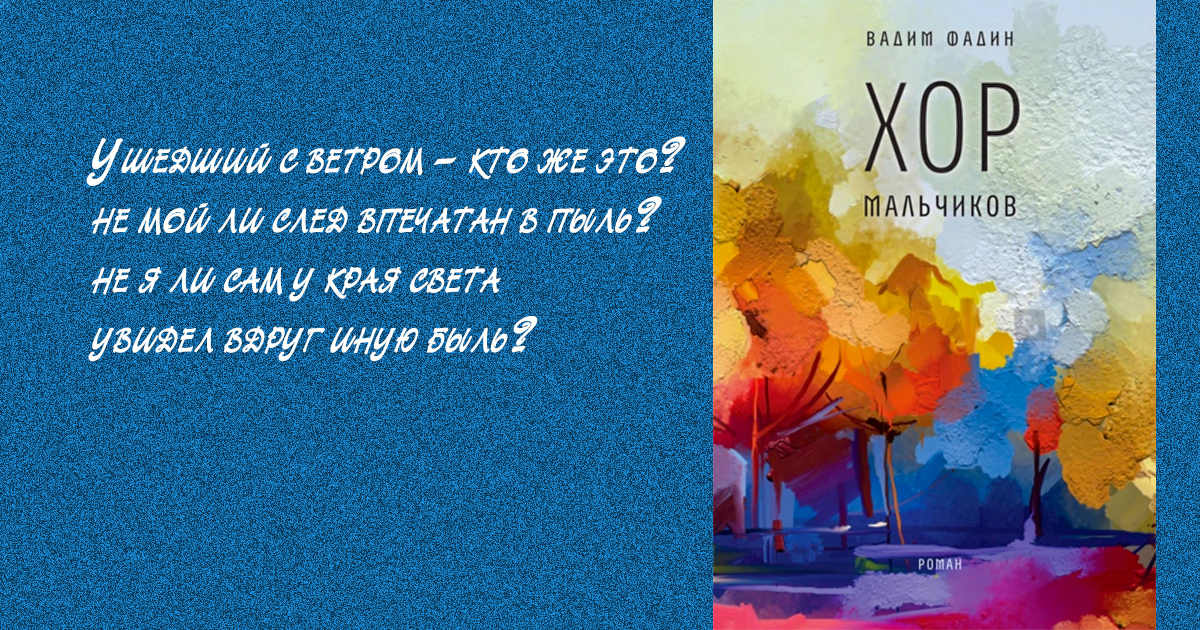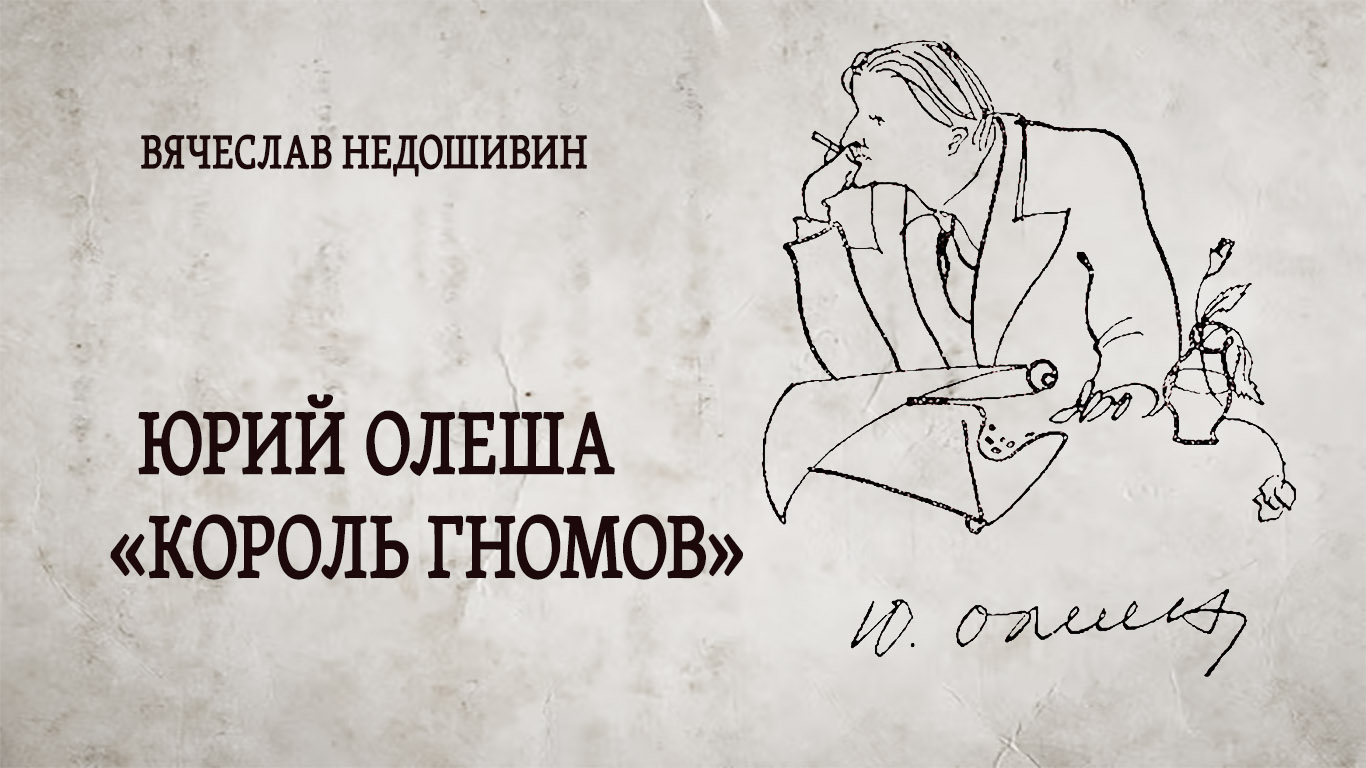Андрей Вознесенский писал мудро и зрело, он познал тайны совершенства и красоты. Его творчество — это букет прекрасных фиалок, ландышей, подснежников, сирени и жасмина, весенний дар короткой хрущевской оттепели, замерзший прямо в вазе; букетом и жардиньеркой, икебаной. Но взрослым человеком, мужем, одиноким волком он никогда не был, этот Вознесенский, творец, гениальный мальчик, «дерзец», «русский рында», по словам переделкинского соседа (Евтушенко тоже, кстати, соседствовал) Валентина Катаева, кузнеца метафор и стеклодува образов.
Евгений Евтушенко промышлял не красотой, он понимал, что происходит. Власти его поимели, но и он их на сдачу с лояльности поимел. А вот с прекрасных стихов Вознесенского, беззащитного, открытого, наивного, как Лорка, власть поимела немало, а сдачи не дала. Чистота — это не то оружие, которое могло помочь в этом сражении. По Вознесенскому били из берданки, как по его несчастному зайцу, его подранили, как его переделкинского соловья. Он не умел защищаться от подлости и злобы. Евтушенко, зрелый циник, защищал других, а дитя человеческое Вознесенский не мог защитить даже себя. Может быть, поэтому и схлопотал два инсульта и ушел раньше старшего Мастера Евгения Александровича, к которому так заторопилась Белла, что забежала вперед, чтобы там встретить, чтобы гурии не прибрали к рукам ее бывшего мужа. Зоя Богуславская, она же Оза, она же Муза и Антигона своего Эдипа — Андрея, в нем уверена, они были вместе на земле 46 лет, вместе они будут и на том свете…
Андрей Вознесенский бросил золотой ключик к своей душе в спектакль Таганки «Антимиры» (и его сборник 1964 года так же назывался). Спектакль был как корзина цветов, умело подобранных садовником Юрием Любимовым, из стихов поэта. Я увидела его в 1966 году. Это был плач по Несбывшемуся, по поэтам, читавшим свои стихи у памятника Маяковскому и пошедшим потом в тюрьмы, как Иосиф Бродский, Вадим Делоне, Владимир Буковский, в эмиграцию, в запой. Через весь спектакль сорокашестилетней давности, через молодость Зинаиды Славиной, Володи Высоцкого, Вениамина Смехова, Валерия Золотухина и еще не поседевшие волосы Юрия Любимова, через победительный талант юного и звонкого, бесстрашного новорожденного театра, ютившегося в маленьком старом здании, забивавшем очередью зрителей Большой, Малый, МХТ, проходила вставная новелла — песня, зонг, хотя и не брехтовский, и не марксистский: «Стоял январь, не то февраль, какой-то чертовый зимарь. Я помню только холодок, над красным ротиком — парок и песенку: “Летят вдали красивые осенебри. Но если наземь упадут, их человолки загрызут”».
Человолки были где-то рядом, они бродили за стенами театра и рычали. Рычали по-глупому: с cоветской властью у Андрея были чисто стилистические разногласия. Собственно, после Серебряного века Бог не посылал России такого красивого, сверкающего, совершенного поэта, такую райскую птицу, такого нарядного осенебря, как Андрей Вознесенский. Но эта красота не спасла наш уродливый и растленный мир, потому что небожитель облек в свой радужный талант совершенно отвратительных людей и ужасные понятия. Я успела предложить ему вычеркнуть это слово из песен. Но он не захотел лгать, сказал, что в молодости он в это верил: в Ленина, в Лонжюмо, в революцию. Что ж, потомки получат все в одном флаконе. Надеюсь, они будут снисходительны ради дара поэта к его политическим ляпам. Хотя в 60-е годы заблуждаться было сложней, чем в 20-е и 40-е. Собственно, Вознесенский, при всей своей нежной белокурой славянской традиции (другие реки, ручьи, пейзажи, цветы и деревья, другие ритмы), сродни Федерико Гарсии Лорке. Тот не любил жандармов и в «Романсе об испанской жандармерии» изобразил их сказочными чудовищами, за что и заплатил жизнью. Но он этого совершенно не ждал, он не лез в политику, перед смертью это несчастное дитя богемы плакало, его руки пришлось отрывать от машины, чтобы вести на расстрел. Большой грех убивать поэтов и пересмешников. Как с этим жил католик Франко, непонятно. Вознесенскому повезло гораздо больше, на него только топали ногами и орали. Ему легче было откупиться и выполнить условия игры, чем Евтушенко: наив Вознесенского был невероятен, они был не от мира сего. Именно поэтому, поспешив за Фрэзи Грант по волнам к сияющему вдали (не в этом измерении) Острову, Андрей провалился в волну и стал легкой добычей тех чудовищ, которые не смели тронуть Фрэзи. «А к мечте, дорогая Фрэзи, я пристать никак не могу». А «добежать до мечты» не удалось никому, в том числе и Вознесенскому. Не было в советском прошлом «сбычи мечт», не было праведности и красоты в ленинских идеях и ленинской жизни, там, где поэт тщетно искал, за что бы ему ухватиться, искал вместе со своим потерянным и потерявшимся поколением шестидесятников.
Родился поэт в благополучной интеллигентной семье 12 мая 1933 года. Да еще в Москве. Отцом его был Андрей Николаевич Вознесенский (1903–1974), инженер-гидротехник, профессор, директор Гидропроекта, участник строительства Братской и Ингурской ГЭС. Мать поэта, Антонина Сергеевна (1905–1983), была интеллигентной дамой, она не нуждалась, ей не надо было зарабатывать на кусок хлеба, можно было посвятить себя семье. Андрюшу любили, лелеяли, баловали. Он был паинькой, хорошо учился, не шалил. Учился он в прекрасной, старейшей в Москве школе (ныне №1060). В 14 лет Андрей посмел послать свои стихи Пастернаку. Тот сразу уловил силу и образность стиха и стал привечать «малыша». Они даже успели подружиться. Но даже зверская погоня совписов за Пастернаком, завершившаяся моральным аутодафе 1960 года, не вызвала у молодого Вознесенского должного ожесточения.
Андрей учился в Московском архитектурном институте. Закончил он его в 1957 году. Но защищать диплом не пришлось: он сгорел в шкафу во время пожара в Архитектурном. Это было избавление. Можно было сойти с ненужной поэту архитектурной стези. «Пожар в Архитектурном! По залам, чертежам, амнистией по тюрьмам — пожар, пожар! По сонному фасаду бесстыже, озорно, гориллой краснозадой взвивается окно!» И дальше — облегчение. «Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, райклубы в рококо!» Лжи поэт не выносил, а советская архитектура принудила бы его лгать. И вот Вознесенского несет в море поэзии, а здесь он сумеет ходить по водам.

И он тоже, юный и верующий в Искусство, читал с эстрады. С Окуджавой и со своей будущей командой: Евтушенко, Беллой Ахмадуллиной, Робертом Рождественским. «Нас много. Нас может быть четверо. Несемся в машине как черти. Оранжеволоса шоферша. И куртка по локоть — для форса. Ах, Белка, лихач катастрофный, нездешняя ангел на вид, хорош твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит… Жми, Белка, божественный кореш! И пусть не собрать нам костей. Да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей!» Вознесенского называли учеником Маяковского, Пастернака, Кирсанова. Но это все ерунда, поэт — это от Бога. Здесь не помогает даже Литинститут. Он писал, как поет его переделкинский соловей. «Свищет всенощною сонатой между кухонь, бензина, щей, сантехнический озонатор, переделкинский соловей! Ах, пичуга микроскопический, бьет, бичует, все гнет свое, не лирически — гигиенически, чтоб вы выжили, дурачье… Как же выжил ты, мой зимовщик, песни мерзнущий крепостной? Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик, голос, тронутый хрипотцой! Бездыханные перерывы между приступами любви. Невозможные переливы, убиенные соловьи».
Первый сборник поэта — «Мозаика» — был издан во Владимире и почему-то вызвал безумный гнев властей. Редактора Капитолину Афанасьеву сняли с работы, а тираж сгоряча едва не уничтожили. Это был 1960 год. Поэма «Мастера». Как раз там для человолков есть кое-что: «Вам, варвары всех времен! Империи и кассы страхуя от огня, вы видели в Пегасе Троянского коня. Кровавые мозоли, зола и пот, и Музу, словно Зою, вели на эшафот». Никто ничего лучшего про храм Василия Блаженного еще не создавал.
Не памяти юродивой вы возводили храм,
а богу плодородия, его земным дарам.
Здесь купола-кокосы, и тыквы-купола.
И бирюза кокошников окошки оплела.
Сквозь кожуру мишурную глядело с завитков,
что чудилось Мичурину шестнадцатых веков.
Диковины кочанные, их буйные листы,
кочевников колчаны и кочетов хвосты.
И башенки буравами взвивались по бокам,
и купола булавами грозили облакам!
И москвичи молились столь дерзкому труду —
арбузу и маису в чудовищном саду.
Поэт обрушился всей мощью таланта на давно забытых опричников, ослепивших строителей храма. Власть нетерпеливо била копытами. Ей хотелось этого художника лягнуть. И вот выходит следующий сборник — «Парабола», и тоже в 1960 году. А дальше идут «Треугольная груша» (1962) и «Антимиры» (1964). Сборники хватают, как бутерброды с мясом на вегетарианском обеде, их можно встретить только на черном рынке. А человолки воют изо всех углов. Придворные писаки Игорь Кобзев и Николай Ушаков пишут сатиры на Вознесенского, на улице Горького (Тверской) выставлен в «окнах сатиры» «натюрморт»: рабочий, выметающий метлой нечисть, а среди нечисти — Вознесенский со сборником «Треугольная груша». Только «Крокодила» с вилами не хватает. А в марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле Никита Сергеевич, «незабвенный товарищ Хрущев» (Н. Болтянская), устраивает Андрею базарную сцену. Орет на весь зал, чтобы он убирался за океан, к своим хозяевам. Обещает приказать Шелепину выписать иностранный паспорт. Бледный Вознесенский повторяет одно: «Дайте мне договорить!» Почему они все так боялись высылки за границу, золотая советская молодежь? А ездит поэт много и почти свободно.
Уже после Хрущева КГБ понял: они с Евтушенко — визитные карточки режима. Нарядные, глянцевые, с золотыми чернилами. Из США, Италии, Франции Вознесенский просто не вылезает. Дружит с Робертом Лоуэллом, местными опоссумами, пишет о Сан-Франциско: «Сан-Франциско — это Коломенское, это свет посреди холма. Высота, как глоток колодезный, холодна».
Он запросто общается с Пикассо и Сартром. Он пишет непринужденно, что многие знаменитости ему завидуют. Поэт знает себе цену, он немножко позер, как и его друг Евтушенко. «В прозрачные мои лопатки вошла гениальность, как в резиновую перчатку красный мужской кулак». Он приглашает в Россию поэтов и художников: «Где береза в полях пустых сбросит листья себе под ноги, вся прозрачная, как бутыль, на червонном круглом подносе». Поэму «Лед-69» он посвящает студентке МГУ Светлане Поповой, замерзшей в лыжном походе. Всю последнюю ночь она, чтобы не замерзнуть, читала своему выжившему другу стихи Вознесенского. У него масса поклонников и поклонниц, готовых порвать его на сувениры. Он элегантно одет, у него замечательно нарядные рубашки и шейные платки, недоступные советскому человеку.
Почему ему все это позволяют? А плата внесена. Во-первых, в США поэта шокировала слежка со стороны ФБР (про слежку со стороны КГБ он ничего не написал). «В Америке, пропахшей мраком, камелией и аммиаком, пыхтя, как будто тягачи, за мною ходят стукачи… Пусти, красавчик Квазимодо, душа болит, кровоточа, от пристальных очей “Свободы” и нежных взоров стукача».
Стыдно. А это? «Ленин — самое чистое деянье, он не может быть осквернен. Уберите Ленина с денег! Он для сердца и для знамен». Но хуже всего — «Лонжюмо». Потому что талантливо. «В Лонжюмо сейчас лесопильня. В школе Ленина? В Лонжюмо? Нас распилами ослепили бревна, бурые, как эскимо». И дальше: «Пусть корою сосна дремуча, сердцевина ее светла. Вы терзайте ее и мучайте, чтобы музыкою была! Чтобы стала поющей силищей корабельщиков, скрипачей… Ленин был из породы распиливающих, обнажающих суть вещей». А кончается это как? Мавзолеем. «Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин: “Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!”». Никогда еще искренность поэта не приносила столько бед…
Вознесенского считали плейбоем, ему приписывали целый гарнизон Муз. На самом деле Муза была одна — его жена, Зоя Богуславская, писательница и критик. Они прожили вместе 46 лет.
Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.
…Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твердой, как наст, тоской.
И оседая, шевелится,
будто снега из детств,
свежее сожаление
милых твоих одежд.
Оза вдохновляла его, а Зоя, ее земная ипостась, авеша, заботилась о нем, все прощала, все понимала, лечила, кормила и помогала жить. В 2006 году случился первый инсульт. Зоя выходила его. Но от второго спасти не смогла. Андрей Вознесенский ушел от нас 1 июня 2010 года. Для поэта это была долгая жизнь.
Кончились холода, началась перестройка. Андрей Андреевич забыл о грехах бурной советской юности, он вступил в «Апрель», он поддерживал Ельцина. И главное, он усвоил уроки горестной российской судьбы. Он всем объяснил, что такое христианство, и признал, что ни он, ни мы не тянем на него.
Древний полуразрушенный Храм. Маленькая девочка и мать рассматривают фрески. «Мама, кто это там — голенастенький, руки в стороны — и парит? — Знать, инструктор лечебной гимнастики. Мир не может за ним повторить». Такое признание легко не дается. Вот они, два инсульта.
От этой истины можно только уплыть. Знаменитая опера Ленкома «Юнона и Авось» написана по сценарию и стихам Андрея Вознесенского. «Вместе с флейтой поднимем флягу, чтобы смелей жилось, под российским Андреевским флагом и с девизом “Авось”!». В конце концов поэт понял, что нам суждено умирать на полпути к Мечте.
Иешуа Га-Ноцри дарует нашему Вознесенскому покой: старинный дом, свечи, гусиные перья. И его Маргарита (Зоя) вечно пребудет с ним в сияющем кипении лунного света…