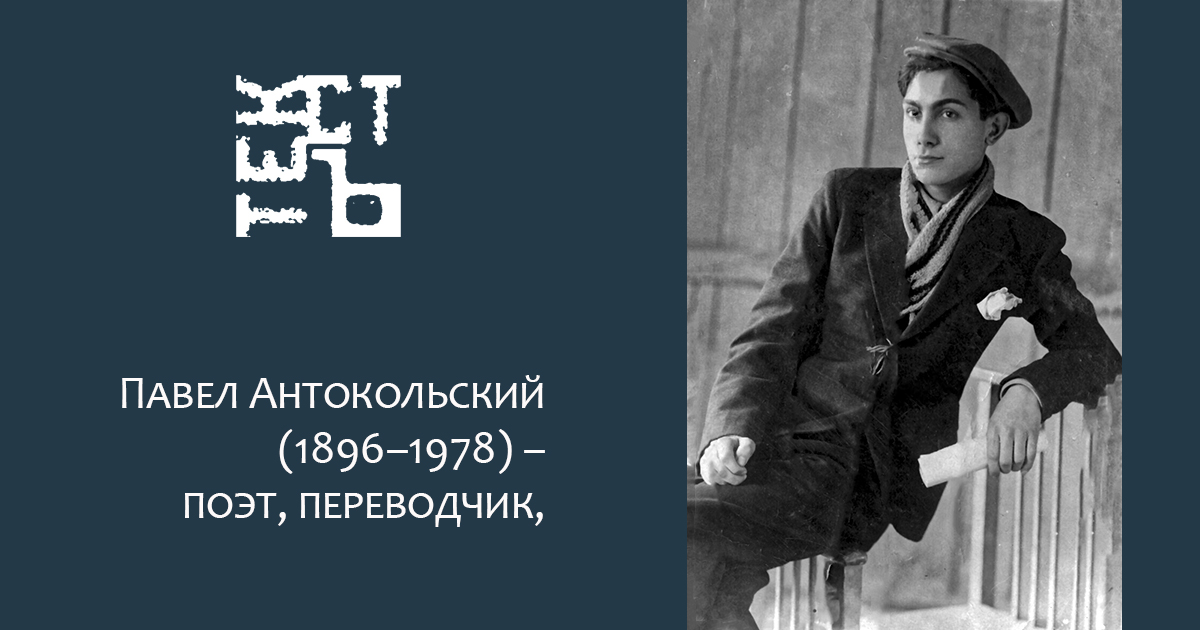* * *
Прошло, померкло, отгорело,
нет ни позора, ни вины.
Все, подлежавшие расстрелу,
убиты и погребены.
И только ветер, сдвинув брови,
стучит в квартиры до утра,
где спят лакейских предисловий
испытанные мастера.
А мне-то, грешному, все яма
мерещится в гнилой тайге,
где тлеют кости Мандельштама
с фанерной биркой на ноге.
1974
* * *
На том конце земли, где снятся сны
стеклянные, сереют валуны
и можжевельник в изморози синей –
кто надвигается, кто медлит вдалеке?
Неужто осень? На её платке
алеет роза и сверкает иней.
Жизнь хороша, особенно к концу,
писал старик, и по его лицу
бежали слёзы, смешанные с потом.
Он вытер их. Младенец за стеной
заснул, затих. Чай в кружке расписной
давно остыл. И снова шорох – кто там
расправил суматошные крыла?
А мышь летучая. Такие, брат, дела.
Спит ночь-прядильщица, спит музыка-ткачиха,
мне моря хочется, а суждена – река,
течёт себе, тепла, неглубока,
и мы с тобой, возлюбленная, тихо
плывём во времени, и что нам князь Гвидон,
который выбил дно и вышел вон
на трезвый брег из бочки винной…
Как мне увериться, что жизнь – не сон, не стон,
но вещь протяжная, как колокольный звон
над среднерусскою равниной?
* * *
Мне снилась книга Мандельштама
(сновидцы, и на том стоим),
спокойно, весело и прямо
во сне составленная им.
Листая с завистью корявой
написанное им во сне,
я вдруг очнулся – Боже правый,
на что же жаловаться мне?
Смотри – и после смерти гений,
привержен горю и труду,
спешит сквозь хищных отражений
провидческую череду –
под ним гниющие тетрадки
гробов, кость времени гола,
над ним в прославленном порядке
текут небесные тела –
звезда-печаль, звезда-тревога,
погибель – чёрная дыра,
любовь – прощальная сестра,
и даже пагуба – от Бога…
* * *
Ну и что с того, что дышать отвык,
что чужим останусь в родной стране?
Посмотри, как корчится черновик,
полыхая в чёрном, в ночном огне.
То ли буквы – искрами в высоту?
То ли стенам тесно от сонных звёзд?
Ах, не всё-то масленица коту,
настаёт ему и великий пост,
настаёт расплата за светлый грех –
усмехнись в ответ и смолчать сумей.
Может, в жизни главное – трепет век,
перелёт зрачка, разворот бровей.
И за эту плоть, за тепло, за смерть
расплатиться буйною головой,
чтобы много пить, чтобы мало петь,
захлебнувшись радугой кочевой…
* * *
Я все тебе отдам, я камнем брошусь в воду –
но кто меня тогда отпустит на свободу,
умоет ноги мне, назначит смерти срок,
над рюмкою моей развинтит перстенек?
Мелькает стрекоза в полете бестолковом,
колеблется душа меж синим и лиловым,
сырую гладь реки и ветреный залив
в глазах фасеточных стократно повторив.
О чем ты говоришь? Ей ничего не надо,
ни тяжести земной, ни облачной отрады,
пусть не умеет жить и не умеет петь —
одна утеха ей — лететь, лететь, лететь,
пока над вереском, над кочками болота
Господь не оборвет беспечного полета,
покуда не ушли в болотный жирный ил
соцветья наших глаз, обрывки наших крыл…
1978
* * *
ax город мой город прогнили твои купола
коробятся площади потом пропахли вокзалы
довольно довольно навозного злого тепла
я тоже старею и чувствую времени мало
тряхну стариною вскочу в отходящий вагон
плацкартная сутолка третий прогон без билета
уткнулся в окошко попутчик нахмуренный он
без цели особенной тоже несется по свету
ну что ты бормочешь о связи времен и людей
имперская спесь не броня а соленая корка
мы столько кривились в мальчишеской линзе дождей
что смерть на миру постепенно вошла в поговорку
а рядом просторы и вспухшие реки темны
луга и погосты написаны щедрою кистью
и яблоки зреют и Господу мы не нужны
и дуб великан обмывает корявые листья
ах город мой город сложить не сойдутся края
мне ярче огней твоих свет керосиновой лампы
в ту долгую осень которую праздновал я
читая Державина ржавокипящие ямбы
сойду на перрон и вдыхая отечества дым
услышу гармонь вдалеке и гудок паровоза
а в омуте плещется щука с пером голубым
и русские звезды роняют татарские слезы
1979